
//Жильбер Симондон / 8 сентября 1953 года, Сент-Этьен
Впечатление неограниченной, безоговорочно подлинной реальности света. Не вещи как субстанция — теряют и вновь обретают реальность вихри отношений: путешествия, свет, солнце; наружность камней, а не их глубинная вещность. Зерно вещей и не вещей.
//Иоганн Теснериус / О природе магнитных явлений
Возьми вместилище из железа, вроде вогнутых стёкол, снаружи украшенное выгравированными узорами не только ради красоты, но также ради легкости, ибо чем легче сосуд, тем легче его можно привести в движение. Но он не должен быть при этом прозрачным, так чтобы можно было бы видеть заключенную в нем тайну.
//editorial core
Денис Шалагинов
Иван Спицын
Евгений Кучинов
Сергей Кочкуров
//mutual aid sq
Владислав Жигалов, Алексей Конаков, Дмитрий Кралечкин,
Егор Гализдра, Иван Аксёнов, Александр Ветушинский, Иван Напреенко, Майкл Мардер, Хилан Бенсусан, Радек Пшедпельский, Арсений Жиляев, Георгий Федоровский, Мэттью Сегалл, Бен Вудард, Тим Ингольд,
Маяна Насыбуллова, Ярослав Михайлов, Алексей Дорофеев, Кендзи Сиратори, Юк Хуэй, Джесси Коэн, Никита Сазонов, Катя Никитина, Аня Родионова, Коля Смирнов, Антон Крафтский, Никита Архипов, Тим Элмо Фейтен, Аня Горская, Джейкоб Блюменфельд, Саша Скалин, Эдвард Сержан, Кирилл Роженцов, Илья Поляков, Артём Морозов,
Дмитрий Скородумов, Илья Гурьянов и другие.
TG / INST / FB / VK
Впечатление неограниченной, безоговорочно подлинной реальности света. Не вещи как субстанция — теряют и вновь обретают реальность вихри отношений: путешествия, свет, солнце; наружность камней, а не их глубинная вещность. Зерно вещей и не вещей.
//Иоганн Теснериус / О природе магнитных явлений
Возьми вместилище из железа, вроде вогнутых стёкол, снаружи украшенное выгравированными узорами не только ради красоты, но также ради легкости, ибо чем легче сосуд, тем легче его можно привести в движение. Но он не должен быть при этом прозрачным, так чтобы можно было бы видеть заключенную в нем тайну.
//editorial core
Денис Шалагинов
Иван Спицын
Евгений Кучинов
Сергей Кочкуров
//mutual aid sq
Владислав Жигалов, Алексей Конаков, Дмитрий Кралечкин,
Егор Гализдра, Иван Аксёнов, Александр Ветушинский, Иван Напреенко, Майкл Мардер, Хилан Бенсусан, Радек Пшедпельский, Арсений Жиляев, Георгий Федоровский, Мэттью Сегалл, Бен Вудард, Тим Ингольд,
Маяна Насыбуллова, Ярослав Михайлов, Алексей Дорофеев, Кендзи Сиратори, Юк Хуэй, Джесси Коэн, Никита Сазонов, Катя Никитина, Аня Родионова, Коля Смирнов, Антон Крафтский, Никита Архипов, Тим Элмо Фейтен, Аня Горская, Джейкоб Блюменфельд, Саша Скалин, Эдвард Сержан, Кирилл Роженцов, Илья Поляков, Артём Морозов,
Дмитрий Скородумов, Илья Гурьянов и другие.
TG / INST / FB / VK
Хилан Бенсусан
Материализм, заблудившийся в лесах
В понятии материи кроется связь с лесом. Соответственно, путь отхода от чистой материи, подробно описанный в метафизической авантюре, затеянной Аристотелем, ведет к выселению из леса и доместикации, что влечет за собой понимание леса как скопления элементарных материалов, которые можно из него извлечь. Отрезанная от связи с лесом, материя в итоге оказывается — самое большее — источником потенциальностей, которые могут противостоять метафизической авантюре, лишь апеллируя к способностям, пассивно содержащимся в сырых материалах. После беглого обсуждения некоторых особенностей материи в хайдеггеровском изображении метафизического проекта, эротики материи Батлер и отчета Симондона о том, как материя информируется, я перехожу к дождевому лесу в его переменчивой динамике, где усия оказывается неуловимой. Лес, обозначенный выражением яномами урихи а, которое использует Копенава, есть место шума и расхождения, контрастирующее с пристрастием к пустынным ландшафтам и противостоящее однозначности (univocity) умопостигаемости. Я предлагаю материалисту не апеллировать к сырым материалам, а заглянуть в лес, хюле = урихи a, дабы продолжать доверять материи как источнику сопротивления.
1. Старое хюле
Еще до того, как ὕλη (хюле) — разумеется, отличное от δένδρα (дендра), — стало означать содержание, состав, материал, сырье, материю или древесину, оно указывало на лес, это изобильное собрание более или менее переплетенных вещей. Аристотель (Метаф. I 3) приводит четыре ἀρχῆς αἰτίων (архэс айтион), среди них ὕλην (хюлен) или ὑποκείμενον (гипокейменон)[1]. Эта айтия отличается от трех других, поскольку обращается к тому, что было до того, как нечто возникло; по контрасту, четвертая айтия касается целей, третья — того, что вводит нечто в существование, а первая — архетипической умопостигаемости, которая проистекает из формы. Первая айтия в некоторой степени безразлична к тому, что было прежде, — а интенсивность этого безразличия и есть то, что стоит на кону, когда Аристотель противопоставляет свой гилеморфизм платоновскому пренебрежению содержанием формы. Аристотель — вероятно, в качестве стратегической уступки Платону — связывает первую αἰτία с конечным ἀρχή (архэ), или с принципом, который объясняет, почему вещи таковы, каковы они суть. Однако принцип здесь не в том, что было прежде; это вторая айтия, то есть хюле, субстрат, лежащий в основе того, чем нечто является. Вероятно, понять — значит ухватить форму, но гипокейменон входит в мысленный образ потому, что вещи не возникают из ниоткуда; они, скорее, приходят из леса.
Гипокейменон, субстрат, также во многих отношениях неоднозначен (equivocal). Он указывает на то, что под-лежит, и в этом смысле имеет место прежде, чем нечто представляется таким, каково оно есть, — как древесина (или дерево), прежде чем она становится столом, но также как призрак или видение во тьме, прежде чем установлены какие-либо из его качеств. Это как сырье для всякого добавления качества — в строении стола, но еще и в приписывании чему-либо предикатов. Поэтому гипокейменон также иногда переводится как «субъект». Так происходит потому, что он предицируется — но сам по себе предикатом не является. Аристотель связывает субстрат с ὅτι ἐστὶν (готи эстин) — существованием, отделенным от сущности, — а также с τόδε τι (тоде ти) — дейктическим «это», в чем-то схожим с haecceitas Дунса Скотта. Субстрат находится под любой предикацией, любым качеством или отношением; он есть то, что ин-формируется, принимает форму. Хюле и гипокейменон, взятые вместе, предполагают, что они являются отправной точкой для эффекта, производимого айтией. Речь идет о том, что предшествует движению, о том, что порождает возможность предикации, будучи вместилищем качеств и отношений, и о том, что опускает субстанциальность на землю.
Центральный персонаж аристотелевского сказа о способе бытия вещей есть ουσíα (усия), нечто длящееся, сохраняющееся в представлении, упорствующее в том, каково оно есть. Ее часто переводят как «субстанцию», хотя исходно это нечто вроде «дома»: очаг, жилище, место пребывания. Там, где нечто существует, живет, куда часто возвращается и где, как правило, находится бо́льшую часть времени. Аристотель подчеркивает, что форма — не то место, где живет вещь, ее усия; дом вещи — это скорее информированное хюле. Гилеморфная усия, вероятно, похожа на DIY-объект с приложением набора материалов и инструкций по их сборке. Хюле прилагается к усии, дому. Возможно, это означает дом, сделанный из дерева, или, скорее, жилище в лесу. Аристотель утверждает, что усия изначальна, и как раз по отношению к ней следует понимать другие способы бытия. Его дом в лесу — образ прирученный, оседлый. Кроме того, хюле не является протагонистом; оно признается тем, что делает усию разумной, но не играет никакой другой роли, кроме бытия информируемым, бытия предицируемым, кроме инстанцирования формы.
Хюле предстает пассивным элементом в усии, мало чем отличающимся от того, как его понимал Платон, — за тем исключением, что Аристотель считал хюле отдельным элементом, который выделен для дома и пассивно состоит у него на службе, в то время как Платон считал его неограниченным вместилищем, стоящим наготове для выражения форм. Платон считал, что жилище вещей находится не в чувственном, а в другом месте, и они отправляются в хюле как гости, которые никогда не чувствуют себя [там] как дома. Неопределенное вместилище понималось не как часть дома, а как промежуточный пункт, сам по себе чуждый пониманию: χώρα (хора), которая представляет собой пространство, используемое для чего-то, но также и неиспользуемую землю вокруг города. Хора — не пустое место, а место, доступное для использования. В двух словах, хюле предстает либо как гипокейменон, либо как хора. Этот элементарный материал является либо составной частью дома (то есть сам по себе недостаточен для проживания), либо доступным по ходу дела местом для форм.
Если принять хюле за лес, оно окажется либо набором ингредиентов в некоем рецепте, либо неопределенной массой. Но давайте задумаемся, что получится, если мы не будем фокусироваться на том добавлении к значению хюле, которое имело долгую философскую карьеру среди материалистов и их противников, а вместо этого сосредоточимся на том, что это слово могло бы высветить для Аристотеля и его современников? Что, если мы останемся в лесу, который, пожалуй, и обусловил изначальные мысли о материи, сырье и даже элементарном материале? Вероятно, это отправная точка для археологии той самой стихийной материальности, которую мы часто считаем вездесущей. Кроме того, это может привести нас к ан-археологии материализма стихий[2] . Так или иначе, это я и попытаюсь сделать здесь.
Гипокейменон, субстрат, также во многих отношениях неоднозначен (equivocal). Он указывает на то, что под-лежит, и в этом смысле имеет место прежде, чем нечто представляется таким, каково оно есть, — как древесина (или дерево), прежде чем она становится столом, но также как призрак или видение во тьме, прежде чем установлены какие-либо из его качеств. Это как сырье для всякого добавления качества — в строении стола, но еще и в приписывании чему-либо предикатов. Поэтому гипокейменон также иногда переводится как «субъект». Так происходит потому, что он предицируется — но сам по себе предикатом не является. Аристотель связывает субстрат с ὅτι ἐστὶν (готи эстин) — существованием, отделенным от сущности, — а также с τόδε τι (тоде ти) — дейктическим «это», в чем-то схожим с haecceitas Дунса Скотта. Субстрат находится под любой предикацией, любым качеством или отношением; он есть то, что ин-формируется, принимает форму. Хюле и гипокейменон, взятые вместе, предполагают, что они являются отправной точкой для эффекта, производимого айтией. Речь идет о том, что предшествует движению, о том, что порождает возможность предикации, будучи вместилищем качеств и отношений, и о том, что опускает субстанциальность на землю.
Центральный персонаж аристотелевского сказа о способе бытия вещей есть ουσíα (усия), нечто длящееся, сохраняющееся в представлении, упорствующее в том, каково оно есть. Ее часто переводят как «субстанцию», хотя исходно это нечто вроде «дома»: очаг, жилище, место пребывания. Там, где нечто существует, живет, куда часто возвращается и где, как правило, находится бо́льшую часть времени. Аристотель подчеркивает, что форма — не то место, где живет вещь, ее усия; дом вещи — это скорее информированное хюле. Гилеморфная усия, вероятно, похожа на DIY-объект с приложением набора материалов и инструкций по их сборке. Хюле прилагается к усии, дому. Возможно, это означает дом, сделанный из дерева, или, скорее, жилище в лесу. Аристотель утверждает, что усия изначальна, и как раз по отношению к ней следует понимать другие способы бытия. Его дом в лесу — образ прирученный, оседлый. Кроме того, хюле не является протагонистом; оно признается тем, что делает усию разумной, но не играет никакой другой роли, кроме бытия информируемым, бытия предицируемым, кроме инстанцирования формы.
Хюле предстает пассивным элементом в усии, мало чем отличающимся от того, как его понимал Платон, — за тем исключением, что Аристотель считал хюле отдельным элементом, который выделен для дома и пассивно состоит у него на службе, в то время как Платон считал его неограниченным вместилищем, стоящим наготове для выражения форм. Платон считал, что жилище вещей находится не в чувственном, а в другом месте, и они отправляются в хюле как гости, которые никогда не чувствуют себя [там] как дома. Неопределенное вместилище понималось не как часть дома, а как промежуточный пункт, сам по себе чуждый пониманию: χώρα (хора), которая представляет собой пространство, используемое для чего-то, но также и неиспользуемую землю вокруг города. Хора — не пустое место, а место, доступное для использования. В двух словах, хюле предстает либо как гипокейменон, либо как хора. Этот элементарный материал является либо составной частью дома (то есть сам по себе недостаточен для проживания), либо доступным по ходу дела местом для форм.
Если принять хюле за лес, оно окажется либо набором ингредиентов в некоем рецепте, либо неопределенной массой. Но давайте задумаемся, что получится, если мы не будем фокусироваться на том добавлении к значению хюле, которое имело долгую философскую карьеру среди материалистов и их противников, а вместо этого сосредоточимся на том, что это слово могло бы высветить для Аристотеля и его современников? Что, если мы останемся в лесу, который, пожалуй, и обусловил изначальные мысли о материи, сырье и даже элементарном материале? Вероятно, это отправная точка для археологии той самой стихийной материальности, которую мы часто считаем вездесущей. Кроме того, это может привести нас к ан-археологии материализма стихий[2] . Так или иначе, это я и попытаюсь сделать здесь.
Аристотель, Метафизика, 983a–b.
Об ан-археологии см.: Bensusan, Being Up for Grabs.
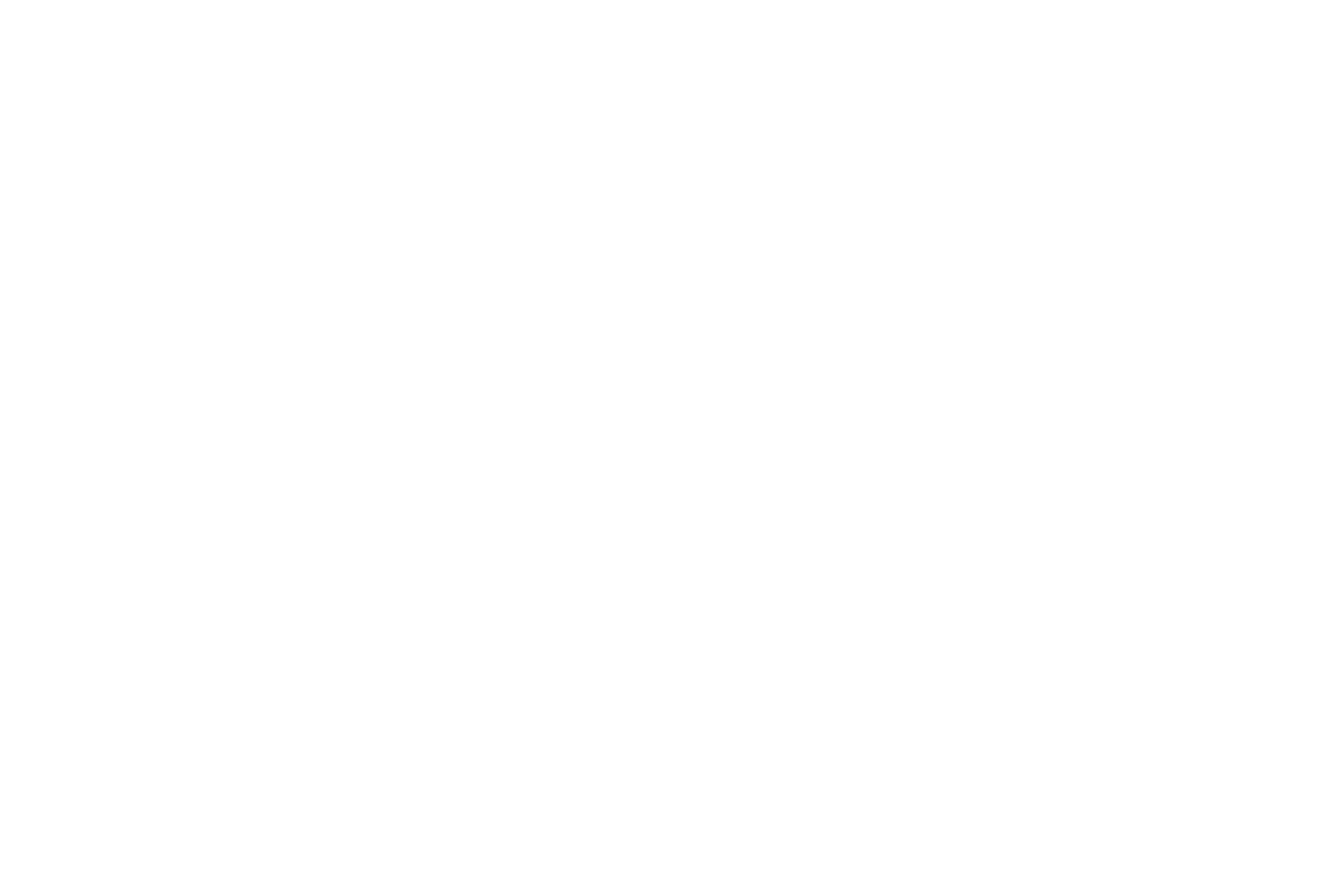
2. Лес и стены
Хайдеггер предпочитает понимать усию как присутствие, как то, что находится в процессе бытия тем, что оно есть. «В особом, первостепенном значении присутствие, — пишет он, — есть пребывание того или иного по себе пребывающего, предлежащего, пребывание когда-либо-бывающего»[3]. Оно связано с конкретным, этим. Первое значение присутствия выражается в ὅτι ἐστὶν, экзистенции в противоположность эссенции[4]. Хайдеггер рассматривает это различие в качестве решающего шага для запуска метафизической авантюры в аристотелевском (раскольническом) прочтении Платона. То, что присутствует независимо от какой-либо квалификации, привносится формой — экзистенция ставится на службу эссенции. Тогда присутствие в принципе можно понять в терминах выражения эссенции в гипокейменоне, в хюле. Авантюра метафизики стартует с обратной разработки того, что делает нечто присутствующим, — извлечения присутствия из неопределенного в ином случае хюле. Хюле присутствует, но связано лишь с тем, что удерживается, формируя умопостигаемую единицу. Приняв хюле за лес, можно повторить поразительное замечание Левинаса о метафизической мысли: «безопасность народов Европы за их границами и стенами их домов, обеспеченная их собственностью, является не социологическим условием метафизической мысли, а самим проектом такой мысли»[5]. Этот проект состоит в использовании элементарных материалов (из леса) для строительства интеллигибельных домов со стенами, крышами и полами. Метафизика есть проект в отношении леса — тот, что интегрирует элементарные материалы в программе раскрытия того, как что-либо присутствует.
Авантюра, в которой Аристотель делает решающий шаг, состоит в установлении того, что заставляет нечто оставаться тем, что оно есть, — что придает вину его качества, а винограду — характерную форму, что заставляет виноградник приносить плоды, а семя прорастать. Усилие направлено на то, чтобы отделить усию вещей от их внешнего вида. Стало быть, аристотелевское учреждение метафизики восходит к платоновскому отделению идей или форм от чувственных вещей. Аристотель привлекает хюле для того, чтобы осмыслить присутствие как ἐνέργεια (энергейю), то, что действует. Усия — не полностью оголенная вещь, а процесс информирования материи, и к этой энергейе вещи склонны возвращаться. Метафизика возникает из аристотелевской усии лишь потому, что Платон уже отделил вещи от форм, которые они выражают. Хайдеггер, рассматривая запуск метафизического проекта, пишет, что «Аристотель может мыслить ούσία как ένέργεια, только в противовес осмыслению ούσία как ίδέα»[6]. Так как эссенция отделена от экзистенции — по крайней мере, теоретически, — присутствие становится вопросом инстанцированных предикаций. Потом можно строить стены, крыши и полы из хюле: того, что можно найти в лесу. Лес и вправду есть место, где вещи кажутся отделенными от своих предикаций, — где мы замечаем, что вокруг что-то есть, прежде чем узнаем, что это такое. Однако лес вряд ли можно назвать пассивным вместилищем; возможно, смысловая прибавка к хюле, которая сделала его обозначением «материи», является тем, что заставило элементарные материалы просто подчиняться формам, на них налагаемым.
Превращение леса в лесоматериал — первый шаг в долгой метафизической авантюре, которая завершится ви́дением всего в качестве выставленной и расставленной реальности. Трансформация хюле из леса в древесину равносильна переходу из фюсиса в тезис, что описано Хайдеггером как утрата мира[7]. Отношение к миру как тому, что состоит из объектов, наделенных внутренней природой — под-лежащей физикой, — развернулось в само предприятие метафизики: попытку превратить вещи, способные как раскрываться, так и скрываться, в экспонированные объекты. Метафизическая борьба с нежелательными присутствиями есть также борьба с неконтролируемыми отсутствиями. Это борьба с призрачными образами леса, откуда приходят стихии. Эти призрачные образы создают мешанину мыслей и впечатлений, которые лишь изредка превращаются в полноценные присутствия. Из-за непрекращающейся стереоскопии образов невозможно увидеть только один объект. (Аналогично, Гаррет Хардин полагает, что сама экология укоренена в идее о том, что лишь одну вещь мы никогда не можем делать[8].) Леса перенаселены образами, которые сливаются с перспективами там, где они появляются; лес есть стереоскопическое место, где следы лишь изредка превращаются в присутствия.
Отправная точка книги Эдуардо Кона «Как мыслят леса»[9] состоит в том, что в лесу всё мыслит(ся) — как будто превращая то, что кажется объектами мысли, в том числе и посетителя-человека, [в ее субъектов,] лес создает коллективный процесс, всецело стереоскопичный и дивергентный. В некотором смысле на это и намекают Дави Копенава и Брюс Альберт словом «утупе», обозначающим образ, который является не просто субъективной конструкцией, а скорее чем-то средним между архетипом и маской[10]. Вместо того, чтобы приводить к присутствию (усии), хюле (лес) рождает утупе. Эти мыслящие леса, вероятно, используют то, что может быть воспринято как простая экзистенция, как безусловный гипокейменон — неидентифицируемое, неопределенное сущее, которое встречается на вашем пути. Само мышление возникает как лес; опыт мысли похож на прогулку среди формирующихся образов, которые лишь иногда разрешаются в выводах, решениях или действиях. Стало быть, можно предположить, что хюле ведет нас не к скудному, обедненному образу, где почти ничего нет — как в пустыне, — а скорее к изобилию стихий, которые сопротивляются конвергенции, требуемой для извлечения интеллигибельности вещей. Обратите внимание, что в то время как мысль о фюсисе предполагает конвергенцию касательно природы вещей, мысль о лесе, который яномами обозначают выражением урихи а, дивергентна, стереоскопична, полна призраков и отголосков. Лес — это перекрестья непроясненных видимостей. Если хюле = урихи а, это говорит о первоначальной дивергенции, которая не является непроницаемым потоком, потому что в любой момент можно взаимодействовать с тем, что появляется, и пытаться мыслить через него, мысля вместе с ним. Урихи а — место разговоров, бесед, которые протекают в разных темпах, осуществляются разными средствами и в разных формах[11]. Если фюсис открывает проект познания мира, урихи а ближе к проекту нескончаемой живой беседы. Следовательно, это не место фиксированных природ, а место, где всё, что встречается, не является пассивным и сопротивляется полному познанию, поддерживая стереоскопию — будучи более чем одной вещью.
Материализм связан с историей попыток противостояния метафизической авантюре экспонирования природы вещей. Материалисты хотели бы напомнить авантюристам, что существует измерение, блокирующее захват: вещи обладают материальностью, которая, хоть и будучи неуловимой, обеспечивает постоянное сопротивление. Возможно, материя не поддается проекту извлечения умопостигаемой природы вещей, потому что является хранилищем потенциальностей. Материя неисчерпаема; всякая данная вещь, ею формируемая, есть лишь одна из ряда ее ипостасей. Настаивая на этом неуловимом сопротивлении, материалисты взывают к неопределенной материи — не материи усии, а скорее той, которая предшествует рождению оформленных и умопостигаемых вещей. Возможно, тогда лучшим выбором для материалиста стало бы обращение к хюле = урихи а = лесу: именно лес кормит эту диссонантную реальность, скрывающую потенциальности по ту сторону существующих стен. Лес (хюле, урихи а) указывает на другую авантюру для мышления, приключение, в котором мысль направлена не на остальной мир, а скорее на среду иных мыслительных процессов, вероятно, более медленных, менее экспонируемых и выходящих за рамки понимания. Если материалисты стремятся показать, что пределом метафизики как проекта является материя, я предлагаю им отправиться в лесные дебри. Превратить урихи а в протагониста и заблудиться в лесу.
Авантюра, в которой Аристотель делает решающий шаг, состоит в установлении того, что заставляет нечто оставаться тем, что оно есть, — что придает вину его качества, а винограду — характерную форму, что заставляет виноградник приносить плоды, а семя прорастать. Усилие направлено на то, чтобы отделить усию вещей от их внешнего вида. Стало быть, аристотелевское учреждение метафизики восходит к платоновскому отделению идей или форм от чувственных вещей. Аристотель привлекает хюле для того, чтобы осмыслить присутствие как ἐνέργεια (энергейю), то, что действует. Усия — не полностью оголенная вещь, а процесс информирования материи, и к этой энергейе вещи склонны возвращаться. Метафизика возникает из аристотелевской усии лишь потому, что Платон уже отделил вещи от форм, которые они выражают. Хайдеггер, рассматривая запуск метафизического проекта, пишет, что «Аристотель может мыслить ούσία как ένέργεια, только в противовес осмыслению ούσία как ίδέα»[6]. Так как эссенция отделена от экзистенции — по крайней мере, теоретически, — присутствие становится вопросом инстанцированных предикаций. Потом можно строить стены, крыши и полы из хюле: того, что можно найти в лесу. Лес и вправду есть место, где вещи кажутся отделенными от своих предикаций, — где мы замечаем, что вокруг что-то есть, прежде чем узнаем, что это такое. Однако лес вряд ли можно назвать пассивным вместилищем; возможно, смысловая прибавка к хюле, которая сделала его обозначением «материи», является тем, что заставило элементарные материалы просто подчиняться формам, на них налагаемым.
Превращение леса в лесоматериал — первый шаг в долгой метафизической авантюре, которая завершится ви́дением всего в качестве выставленной и расставленной реальности. Трансформация хюле из леса в древесину равносильна переходу из фюсиса в тезис, что описано Хайдеггером как утрата мира[7]. Отношение к миру как тому, что состоит из объектов, наделенных внутренней природой — под-лежащей физикой, — развернулось в само предприятие метафизики: попытку превратить вещи, способные как раскрываться, так и скрываться, в экспонированные объекты. Метафизическая борьба с нежелательными присутствиями есть также борьба с неконтролируемыми отсутствиями. Это борьба с призрачными образами леса, откуда приходят стихии. Эти призрачные образы создают мешанину мыслей и впечатлений, которые лишь изредка превращаются в полноценные присутствия. Из-за непрекращающейся стереоскопии образов невозможно увидеть только один объект. (Аналогично, Гаррет Хардин полагает, что сама экология укоренена в идее о том, что лишь одну вещь мы никогда не можем делать[8].) Леса перенаселены образами, которые сливаются с перспективами там, где они появляются; лес есть стереоскопическое место, где следы лишь изредка превращаются в присутствия.
Отправная точка книги Эдуардо Кона «Как мыслят леса»[9] состоит в том, что в лесу всё мыслит(ся) — как будто превращая то, что кажется объектами мысли, в том числе и посетителя-человека, [в ее субъектов,] лес создает коллективный процесс, всецело стереоскопичный и дивергентный. В некотором смысле на это и намекают Дави Копенава и Брюс Альберт словом «утупе», обозначающим образ, который является не просто субъективной конструкцией, а скорее чем-то средним между архетипом и маской[10]. Вместо того, чтобы приводить к присутствию (усии), хюле (лес) рождает утупе. Эти мыслящие леса, вероятно, используют то, что может быть воспринято как простая экзистенция, как безусловный гипокейменон — неидентифицируемое, неопределенное сущее, которое встречается на вашем пути. Само мышление возникает как лес; опыт мысли похож на прогулку среди формирующихся образов, которые лишь иногда разрешаются в выводах, решениях или действиях. Стало быть, можно предположить, что хюле ведет нас не к скудному, обедненному образу, где почти ничего нет — как в пустыне, — а скорее к изобилию стихий, которые сопротивляются конвергенции, требуемой для извлечения интеллигибельности вещей. Обратите внимание, что в то время как мысль о фюсисе предполагает конвергенцию касательно природы вещей, мысль о лесе, который яномами обозначают выражением урихи а, дивергентна, стереоскопична, полна призраков и отголосков. Лес — это перекрестья непроясненных видимостей. Если хюле = урихи а, это говорит о первоначальной дивергенции, которая не является непроницаемым потоком, потому что в любой момент можно взаимодействовать с тем, что появляется, и пытаться мыслить через него, мысля вместе с ним. Урихи а — место разговоров, бесед, которые протекают в разных темпах, осуществляются разными средствами и в разных формах[11]. Если фюсис открывает проект познания мира, урихи а ближе к проекту нескончаемой живой беседы. Следовательно, это не место фиксированных природ, а место, где всё, что встречается, не является пассивным и сопротивляется полному познанию, поддерживая стереоскопию — будучи более чем одной вещью.
Материализм связан с историей попыток противостояния метафизической авантюре экспонирования природы вещей. Материалисты хотели бы напомнить авантюристам, что существует измерение, блокирующее захват: вещи обладают материальностью, которая, хоть и будучи неуловимой, обеспечивает постоянное сопротивление. Возможно, материя не поддается проекту извлечения умопостигаемой природы вещей, потому что является хранилищем потенциальностей. Материя неисчерпаема; всякая данная вещь, ею формируемая, есть лишь одна из ряда ее ипостасей. Настаивая на этом неуловимом сопротивлении, материалисты взывают к неопределенной материи — не материи усии, а скорее той, которая предшествует рождению оформленных и умопостигаемых вещей. Возможно, тогда лучшим выбором для материалиста стало бы обращение к хюле = урихи а = лесу: именно лес кормит эту диссонантную реальность, скрывающую потенциальности по ту сторону существующих стен. Лес (хюле, урихи а) указывает на другую авантюру для мышления, приключение, в котором мысль направлена не на остальной мир, а скорее на среду иных мыслительных процессов, вероятно, более медленных, менее экспонируемых и выходящих за рамки понимания. Если материалисты стремятся показать, что пределом метафизики как проекта является материя, я предлагаю им отправиться в лесные дебри. Превратить урихи а в протагониста и заблудиться в лесу.
Хайдеггер, Ницше Т. 2, с. 357.
Хайдеггер, Ницше. Т. 2, с. 358.
Levinas, Proper Names, p. 57.
Хайдеггер, Ницше. Т. 2, с. 360.
См.: Heidegger, Insight into That Which Is.
См.: “Garrett Hardin’s Letter to International Academy for Preventive Medicine”, 2001, (https://www.garretthardinsociety.org/articles/let_iapm_2001.html).
Кон, Как мыслят леса.
Kopenawa and Albert, The Falling Sky.
В статье «An-arché, Xeinos, urihi a» я утверждаю, что урихи а также является пространством встреч, которые нельзя редуцировать к получению новых фрагментов информации. Эта идея отчасти вытекает из моего развития метафизики других (Bensusan, Indexicalism) и из тезиса о том, что разум не является конвергентным (Bensusan, “Geist and Ge-Stell”).
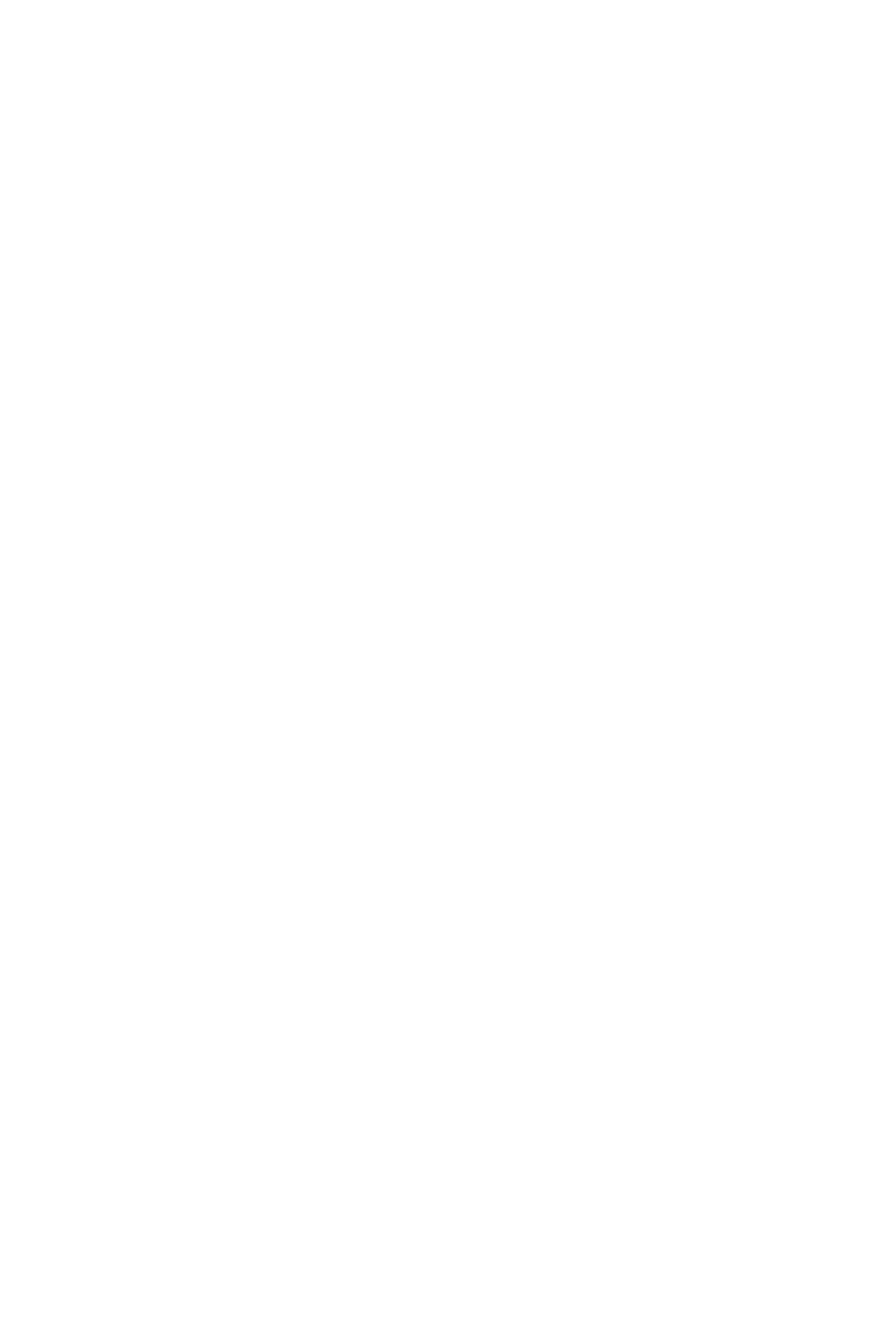
3. Мать-лес и фабричный менеджер
Опираясь на размышления Люс Иригарей о платоновской хоре[12] — неопределенной, неиндивидуированной и чистой пассивности, — Джудит Батлер изучает эротику, которая направляет мышление о материи[13]. Коль скоро ее работа о гендерной перформативности часто понимается как уход от тел, вопрос о материальности пола преследует ее мышление. Она обращается к этой проблеме, фокусируясь прежде всего на сексуальности материи. Материя ассоциируется с женским началом, ин-формируемым детерминациями в схеме гилеморфизма, но также и в платоновском неопределенном сыром материале для актов демиурга. Затем она утверждает, что эротика обладания пассивным в действии направляет западную мысль о материи — том, что состоит в наличии для любого акта детерминации. Батлер делает акцент на образе полового акта, принятого в самом опыте размышления о материальных вещах. Элементарные материалы осмысляются как пассивно ожидающие действия, которое придаст им форму. Это картина оплодотворения, где материя не играет главной роли. Далее, латинское слово «materia» указывает на более твердую внутреннюю древесину дерева, а также, по словам некоторых, на его происхождение или исток — мать. С уравнением материя = мать совокупительная концепция материальных вещей обретает еще одну особенность: мать не только является неповелительным истоком, действующим как репродуктивное устройство, состоящим в наличии, но в своей пассивности материя также наделена порождающей способностью, связанной с ее потенциальностями. Точно так же, как матери, будучи жизненно важными, обесценены фаллоцентрической логикой, материальности — это исток, переведенный в подчиненное положение, и с направляющей эротикой дело, похоже, обстоит так же. По контрасту, если вспомнить о матери-лесе, возникшая картина будет иной, более дикой: материя — лес, где присутствия постоянно повторяются и вкрадываются. Это исток, отправная точка, но не потому, что он ожидает действия, а потому, что является вместилищем пересекающихся (и стереоскопических) действующих лиц.
Интересный способ уйти от фокуса на субстанции — и лежащей в ее основе материи, пассивно обеспечивающей ее конкретность, — взглянуть на (материальные) процессы, посредством которых осуществляется индивидуация. Жильбер Симондон утверждает, что ни один индивид (присутствие) не предшествует процессу индивидуации[14]. Нет никаких заготовленных индивидов, безразличных к процессам, порождающим вещи и их природы. Симондоновский материализм можно выразить так: спросите любого индивида о том, что его выковало, и обнаружившиеся процессы выявят материальность, которую трудно изгнать. Эти материальные процессы позволяют материи иметь дело с формой в гилеморфистском нарративе. Считать гилеморфическую усию принципом индивидуации — значит упускать из виду саму ткань, которая делает всякую вещь индивидуальной. Симондон сравнивает индивидуацию посредством принципа с позицией тех, кто стоит за пределами мастерской, видя лишь то, что входит и выходит. Чтобы понять индивидуацию, необходимо оставить эту позицию начальства и войти в мастерскую. Индивидуирует не фабричный менеджер, а рабочие, машины и отношения внутри сырья. Индивидуация есть процесс производства и как таковая она не может быть редуцирована к его составляющим — порождение нового индивида требует генетических операций, которыми нельзя пренебрегать. Это как если бы процесс беременности и родов — равно как и намерение (или его отсутствие) произвести потомство — были неизбежными попечителями индивида. Симондон, таким образом, указывает на динамический характер материи, коль скоро эти процессы обеспечивают материальное производство вещи. Он различает между стабильным, нестабильным и метастабильным. Последнее нуждается во внешних устроителях, чтобы продолжать быть тем, что оно есть. Материя, в материализме лесов, безусловно, будет метастабильной. В ней таятся силы, поддерживающие ее такой, какова она есть. Далее, материя и вправду вырисовывается динамичной, а значит, не как элемент или пассивный ингредиент, а скорее как процесс порождения вещей. Лишь благодаря материи вещи индивидуируются и потому, в пределе, не могут приютить природу или умопостигаемый принцип устройства, не учитывающие превратностей их индивидуации. Материальные контингентности формируют вещи таким способом, который зачастую ускользает от инженеров, фабричного начальства и общего дизайна конечного продукта.
Материализм лесов отказался бы связывать материю с безразличной, неопределенной и все же общей основой, из которой складываются вещи. Превращение леса в пассивную материю — это поиск тихой (возможно, пустынной) основы для всего. Это идея о том, что основа, архэ, должна быть коренной породой, более прочной, чем то, что стоит на вершине, и безразличной к тому, что использует ее в качестве фундамента. В другом месте я утверждал, что мы можем вовлечься в иную авантюру мысли, если будем думать об основаниях не в терминах коренной породы, а в терминах огня[15]. Огонь — это элементарный материал, который больше всего напоминает процесс формирования вещей изнутри — подобно тому, как Земля и соседние планеты формируются огнем. Что, если основа есть огонь, а не камень, что, если старт есть скол, а не команда? Элементарный материал огня уже является разногласным элементом, взрывающимся, а не покоящимся там, где вещи обретают свою окончательную структуру. Возможно, огонь не подходит на роль пристойного архэ; это скорее ан-архэ и отправная точка для ан-археологии[16]. Вероятно, огонь также является более подходящим архетипом (или ан-архетипом) для материи, чем земля, дерево или камень. Материализм огня сродни материализму лесов — он ищет сопротивления в чем-то беспокойном и постоянно изменяющемся и обитает где-то под полностью проявленными присутствиями. Огонь — часть леса; некоторые леса выкованы огнем. В случае леса, как и в случае огня, индивиды не конечные единицы, поскольку их индивидуация постоянно зависит от процесса, который их поддерживает. Леса, подобно огню, не-конвергентны, динамичны и метастабильны. Материализм лесов усматривает лес в основе стен, фабрики и всякого процесса, порождающего присутствие.
Интересный способ уйти от фокуса на субстанции — и лежащей в ее основе материи, пассивно обеспечивающей ее конкретность, — взглянуть на (материальные) процессы, посредством которых осуществляется индивидуация. Жильбер Симондон утверждает, что ни один индивид (присутствие) не предшествует процессу индивидуации[14]. Нет никаких заготовленных индивидов, безразличных к процессам, порождающим вещи и их природы. Симондоновский материализм можно выразить так: спросите любого индивида о том, что его выковало, и обнаружившиеся процессы выявят материальность, которую трудно изгнать. Эти материальные процессы позволяют материи иметь дело с формой в гилеморфистском нарративе. Считать гилеморфическую усию принципом индивидуации — значит упускать из виду саму ткань, которая делает всякую вещь индивидуальной. Симондон сравнивает индивидуацию посредством принципа с позицией тех, кто стоит за пределами мастерской, видя лишь то, что входит и выходит. Чтобы понять индивидуацию, необходимо оставить эту позицию начальства и войти в мастерскую. Индивидуирует не фабричный менеджер, а рабочие, машины и отношения внутри сырья. Индивидуация есть процесс производства и как таковая она не может быть редуцирована к его составляющим — порождение нового индивида требует генетических операций, которыми нельзя пренебрегать. Это как если бы процесс беременности и родов — равно как и намерение (или его отсутствие) произвести потомство — были неизбежными попечителями индивида. Симондон, таким образом, указывает на динамический характер материи, коль скоро эти процессы обеспечивают материальное производство вещи. Он различает между стабильным, нестабильным и метастабильным. Последнее нуждается во внешних устроителях, чтобы продолжать быть тем, что оно есть. Материя, в материализме лесов, безусловно, будет метастабильной. В ней таятся силы, поддерживающие ее такой, какова она есть. Далее, материя и вправду вырисовывается динамичной, а значит, не как элемент или пассивный ингредиент, а скорее как процесс порождения вещей. Лишь благодаря материи вещи индивидуируются и потому, в пределе, не могут приютить природу или умопостигаемый принцип устройства, не учитывающие превратностей их индивидуации. Материальные контингентности формируют вещи таким способом, который зачастую ускользает от инженеров, фабричного начальства и общего дизайна конечного продукта.
Материализм лесов отказался бы связывать материю с безразличной, неопределенной и все же общей основой, из которой складываются вещи. Превращение леса в пассивную материю — это поиск тихой (возможно, пустынной) основы для всего. Это идея о том, что основа, архэ, должна быть коренной породой, более прочной, чем то, что стоит на вершине, и безразличной к тому, что использует ее в качестве фундамента. В другом месте я утверждал, что мы можем вовлечься в иную авантюру мысли, если будем думать об основаниях не в терминах коренной породы, а в терминах огня[15]. Огонь — это элементарный материал, который больше всего напоминает процесс формирования вещей изнутри — подобно тому, как Земля и соседние планеты формируются огнем. Что, если основа есть огонь, а не камень, что, если старт есть скол, а не команда? Элементарный материал огня уже является разногласным элементом, взрывающимся, а не покоящимся там, где вещи обретают свою окончательную структуру. Возможно, огонь не подходит на роль пристойного архэ; это скорее ан-архэ и отправная точка для ан-археологии[16]. Вероятно, огонь также является более подходящим архетипом (или ан-архетипом) для материи, чем земля, дерево или камень. Материализм огня сродни материализму лесов — он ищет сопротивления в чем-то беспокойном и постоянно изменяющемся и обитает где-то под полностью проявленными присутствиями. Огонь — часть леса; некоторые леса выкованы огнем. В случае леса, как и в случае огня, индивиды не конечные единицы, поскольку их индивидуация постоянно зависит от процесса, который их поддерживает. Леса, подобно огню, не-конвергентны, динамичны и метастабильны. Материализм лесов усматривает лес в основе стен, фабрики и всякого процесса, порождающего присутствие.
См.: Irigaray, Speculum; Платон, Тимей.
Butler, Bodies That Matter.
Simondon, Individuation.
Bensusan, Being Up For Grabs.
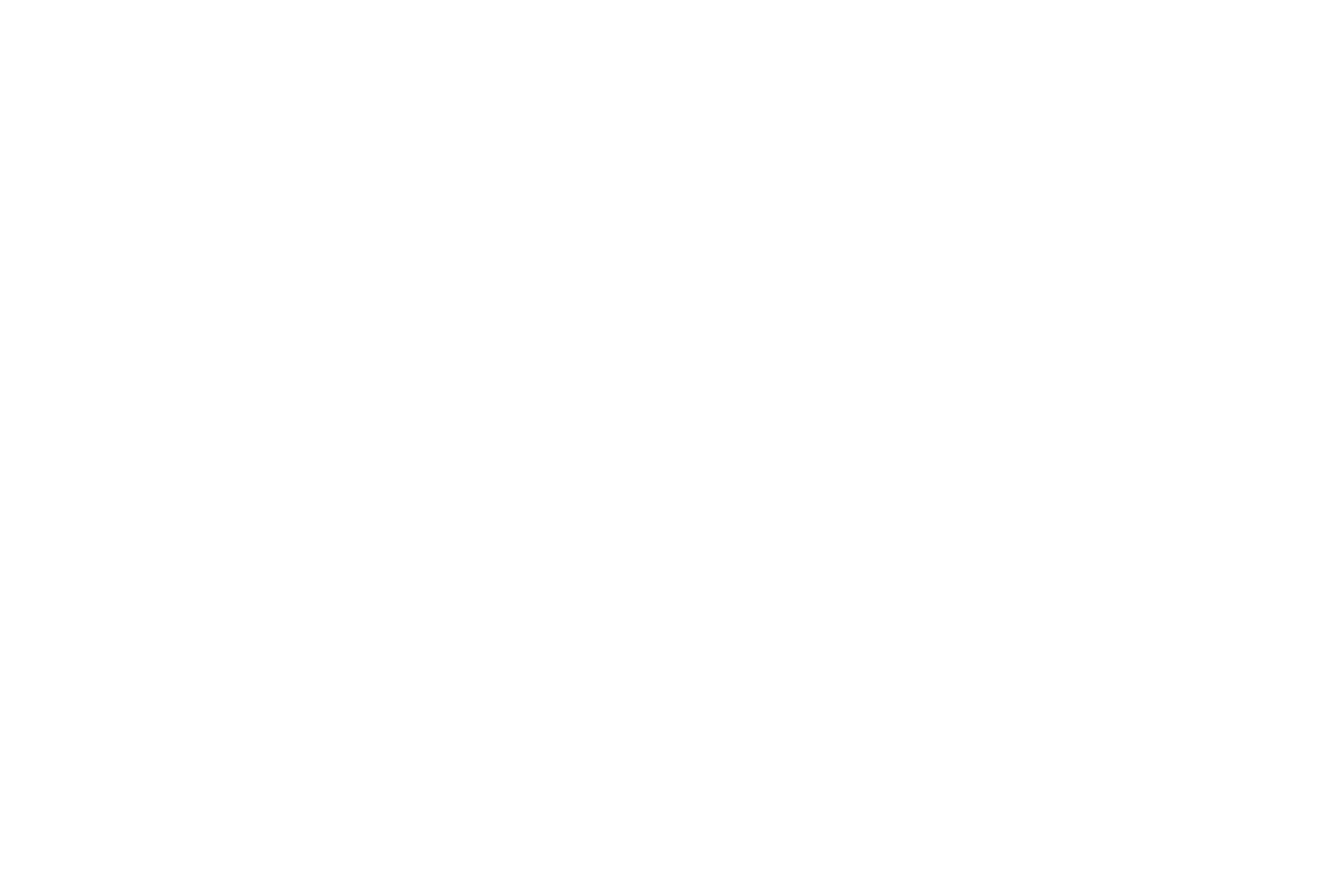
4. Гилея
В начале XIX века Александр фон Гумбольдт назвал амазонские дождевые леса «гилеей». Дождевой лес (урихи а) обладает силами, которые поддерживают его изобилие и зачастую делают природу его стихий неуловимой. К нему непросто подступиться с пристрастием к пустынным ландшафтам, которые восхвалял Уиллард Ван Орман Куайн[17]. Идея Куайна заключалась в том, чтобы как можно чаще применять бритву Оккама — относиться ко всему как можно более пустынно. А точнее, допускать, что за всем стоит небольшой набор простых принципов. Перенаселенная вселенная, по контрасту, [для него] непривлекательна. Но у материалиста лесов противонаправленные пристрастия. Действительно, Уильям Уимсатт в своей «Философии реинжиниринга для ограниченных существ» противопоставил предпочтениям Куайна именно тягу к тропическим дождевым лесам[18]. Уимсатт стремится вновь включить изобилие леса в биологическое мышление о жизни. Дождевой лес отличается не только избытком индивидов, рассматриваемых по-разному с различных точек зрения, но и постоянно возрастающим обилием видов, разновидностей, отношений и ландшафтов. Разрастающееся изобилие движется разными темпами, порой требуя открытых пространств, дабы оставить место для большей сложности. Материалист лесов считает, что эта схема постоянного пополнения в неустойчивом ландшафте относится к числу конкретных. Материальный мир — заложник расходящегося, стереоскопического и избыточного лоскутного одеяла леса. Включая сюда и пустыню, которая произрастает на тех же элементарных материалах — только при более низкой динамике.
Как урихи а, лес есть место, где переплетаются присутствия и лежащие в их основе утупе, — вероятно, там найдется место для существования в смысле куайновского Вимена, изобретенного мейнонгианского оппонента[19]. Ричард Раутли выдвинул идею более-чем-пустынной концепции существования через образ мейнонгианских джунглей, где находят место возможные объекты, вымышленные персонажи и размытые вещи[20]. Джунгли укрывают самый подвал существования, гипокейменон вещей, которые видятся как утупе и при этом лишены своей эссенции. Джунгли — место, где нет фиксированной природы, нет умопостигаемости, связанной с присутствующим. Материалист джунглей — друг того, что ускользает от предприятия по установлению контроля над вещами. Материализм доверяет материи выполнение разрушительной работы, дабы сделать вещи чрезмерными — но хюле = урихи а может собрать для этого силы. Безусловно, хюле и гилея находятся в огромной опасности, поскольку авантюра метафизики становится все более безразличной к их вызовам. Материалист настаивает на том, что лишь материальность вещей может сдержать эту авантюру или изменить ее курс. Апелляция к джунглям-материи есть обращение к элементарному ингредиенту, лишенному какой-либо природы, кроме изменчивой и диссонирующей. Лес как урихи а не является динамичной и процессуальной структурой, которую можно описать и раскрыть, превратив в под-лежащую пустыню из нескольких надежных принципов. Это непрерывная череда перспектив и ответов, не доходящих до завершения и не дающих представления, которое было бы достигнуто раз и навсегда. Материалистический инструментарий, включающий хору, гипокейменон, уход от метафизических допущений, сопротивление эротической пассивности, приверженность непрерывным процессам индивидуации, джунгли и урихи а, может предоставить ресурсы для переориентации с хюле как продукта на хюле как расхождение. Многое из того, что думают и чего ждут от материи, можно найти в лесу, — возможно, как раз потому, что лес и есть то место, откуда материя приходит. И материалисту стоит вглядеться в шумный и диссонирующий лес за сырыми элементарными материалами.
Как урихи а, лес есть место, где переплетаются присутствия и лежащие в их основе утупе, — вероятно, там найдется место для существования в смысле куайновского Вимена, изобретенного мейнонгианского оппонента[19]. Ричард Раутли выдвинул идею более-чем-пустынной концепции существования через образ мейнонгианских джунглей, где находят место возможные объекты, вымышленные персонажи и размытые вещи[20]. Джунгли укрывают самый подвал существования, гипокейменон вещей, которые видятся как утупе и при этом лишены своей эссенции. Джунгли — место, где нет фиксированной природы, нет умопостигаемости, связанной с присутствующим. Материалист джунглей — друг того, что ускользает от предприятия по установлению контроля над вещами. Материализм доверяет материи выполнение разрушительной работы, дабы сделать вещи чрезмерными — но хюле = урихи а может собрать для этого силы. Безусловно, хюле и гилея находятся в огромной опасности, поскольку авантюра метафизики становится все более безразличной к их вызовам. Материалист настаивает на том, что лишь материальность вещей может сдержать эту авантюру или изменить ее курс. Апелляция к джунглям-материи есть обращение к элементарному ингредиенту, лишенному какой-либо природы, кроме изменчивой и диссонирующей. Лес как урихи а не является динамичной и процессуальной структурой, которую можно описать и раскрыть, превратив в под-лежащую пустыню из нескольких надежных принципов. Это непрерывная череда перспектив и ответов, не доходящих до завершения и не дающих представления, которое было бы достигнуто раз и навсегда. Материалистический инструментарий, включающий хору, гипокейменон, уход от метафизических допущений, сопротивление эротической пассивности, приверженность непрерывным процессам индивидуации, джунгли и урихи а, может предоставить ресурсы для переориентации с хюле как продукта на хюле как расхождение. Многое из того, что думают и чего ждут от материи, можно найти в лесу, — возможно, как раз потому, что лес и есть то место, откуда материя приходит. И материалисту стоит вглядеться в шумный и диссонирующий лес за сырыми элементарными материалами.
Куайн, «О том, что есть», с. 9.
Wimsatt, Re-engineering Philosophy for Limited Beings, p. 213.
Куайн, «О том, что есть».
Routley, Exploring Meinong’s Jungle and Beyond.
Библиография
- Аристотель. Метафизика // Сочинения в четырех томах. Т. 1. М.: Мысль, 1976. С. 64–368.
- Бенсусан, Хилан. An-arché, Xeinos, urihi a: изначальный Другой в космополитическом лесу // Неприкосновенный запас. 2022. № 3 (143). С. 117–138.
- Бенсусан, Хилан. Полемос не укрощается миром // lmnt # 2_ElMat/MoE_2021.
- Кон, Эдуардо. Как мыслят леса: к антропологии по ту сторону человека. М.: Ad Marginem, 2018.
- Куайн, Уиллард Ван Орман. О том, что есть // С точки зрения логики: 9 логико-философских очерков. Томск: Издательство Томского университета, 2003. С. 7–23.
- Платон. Тимей // Собрание сочинений в 4 т. Т. 3. М.: Мысль, 1994. С. 421–500.
- Хайдеггер, Мартин. Ницше. Т. II. СПб.: Владимир Даль, 2007.
- Bensusan, Hilan. Being Up for Grabs: On Speculative Anarcheology. London: Open Humanities, 2016.
- Bensusan, Hilan. Geist and Ge-Stell: Beyond the Cyber-Nihilist Convergence of Intelligence // Cosmos and History. 2020. Vol. 16. № 2. P. 94–117.
- Bensusan, Hilan. Indexicalism: Realism and the Metaphysics of Paradox. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2021.
- Butler, Judith. Bodies That Matter. New York: Routledge, 1993.
- Hardin, Garrett. Letter to the International Academy for Preventive Medicine // The Garreth Hardin Society. June, 2001.
- Heidegger, Martin. “Insight into That Which Is”, in Bremen and Freiburg Lectures, Insight into That Which Is and Basic Principles of Thinking, trans. Andrew J. Mitchell, Bloomington: Indiana University Press, 2012. P. 3–74.
- Irigaray, Luce. Speculum, de l’autre femme. Paris: Minuit, 1974.
- Kopenawa, Davi & Bruce Albert. The Falling Sky: Words of a Yanomami Shaman. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2013.
- Levinas, Emmanuel. Proper Names, trans. Michael B. Smith, Stanford: Stanford University Press, 1996.
- Routley, Richard. Exploring Meinong’s Jungle and Beyond. Departmental Monograph #3, Department of Philosophy, RSSS, Australian National University, 1980.
- Simondon, Gilbert. L’individuation à la lumière des notions de formes et d’information. Grenoble: Jérôme Millon, 2005.
- Wimsatt, William. Re-engineering Philosophy for Limited Beings. Boston: Harvard University Press, 2007.
Перевод с английского: Денис Шалагинов
Визуализация: Антон Крафтский, Иван Спицын
Визуализация: Антон Крафтский, Иван Спицын

