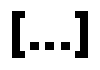Солярный ад и земная бездна[1]
Реза Негарестани
Отменяя гелиоцентрическое рабство
Брак между подлунной земной трущобой и Солнцем стал строго моногамной моделью, регулирующей не только этику, политику и искусство, но и всю историю мыслительной и органической активности. Настало время вернуться к беспорядочным сношениям Земли как плотно набитой констелляции межзвездного мусора с мертвыми звездами. Бесцельное блуждание по космосу вместе с Землей, чье Солнце само является контингентным в космической бездне, то есть оно уже-мертво, — это геофилософское искусство, в которое должны быть вложены все человеческие усилия: объять землю как фрактальный сгусток, а не экзотический голубой мрамор, думать о ней как о петляющем овальном метеорите, кратер от которого уже пробуравил кожу астральных трупов. Идея экологической эмансипации должна быть разведена с одновременно виталистическим и некрократическим отношением Земли и Солнца. Вместо этого она должна быть спарена с космической контингентностью как принципом всех экологий. Лишь экология, пронизанная радикальными контингентностями космической бездны, способна переизобрести Землю в направлении великого внешнего. Для такой экологии всякое мгновение есть апокалипсис, который не может быть доведен до кульминации, а Солнце — не сердце тьмы, но то, что прижигает зияющую рану, из которой в наш мир высачиваются пульверизующие контингентности (или климаты) космической бездны. Настолько же, насколько с Земли должно сорвать концепцию ковчега жизни, Солнце должно быть ограблено на предмет как звездных привилегий, так и гегемонистского экологического импорта. Ведь, в конце концов, Солнце для Земли — это всего лишь неминуемое слепое пятно, заслоняющее простор бездны. По этой причине Солнце нужно не обнимать как темное пламя избытка и не прославлять как лучезарный конец, а пересматривать и переоткрывать как инфернальный элемент в цепи соучастий, которые открывают Землю вселенной, которая является скорее странной, чем инфернальной, ее климатические события скорее асимптотически не-событийны, чем катастрофически климатичны, ее экстериорность куда более имманентна внутреннему, нежели внешнему. Земля, обследованная (ars terram[2]) такой радикальной экологией, может быть переосмыслена в качестве окружной части вложенной бездны. В этой связи ее соматические характеристики (дифференциация тела на неорганические слои и биотерритории), а значит также географические контингентности и, в конечном счете, ее истории, суть продукты бездны, для которой все климаты являются запутанными и извилистыми наклонными-изгибами (klima[3]), которые асимптотичны неклиматическим глубинам вселенной и ее космическим контингентностям. Рассуждая экологически, в бездонном космосе, где отменено гелиоцентрическое рабство, водная витальность Земли есть либо косвенное выражение беззвездной-природы, что дана в качестве гниющей слизи, либо земная бездна, которая извергается в виде разъедающей нефти. В то время как Венеция и ее водный капитализм асимптотически сходятся с безразличной природой, которая представляет собой выгребную яму слизи и плесени, ее сухой ближневосточный близнец Дубай с его нефтяным капитализмом погружен в безумие петролеума, заваренного в хтонической глубине земли. В любом случае космическая бездна и ее радикальная экология находят свое чернеющее выражение в воде жизни, где все климаты (биологические, социальные, политические и т.д.) терминально определяются химией или контингентной динамикой радикальной экстериорности. Именно в этом смысле капиталистическая жизнь, движимая вперед туризмом воды или индустриализмом нефти, становится идеальным локусом для химических вихрей бездны, чья странная экология нигде не проявляется лучше, чем в так называемой могущественной воде жизни.
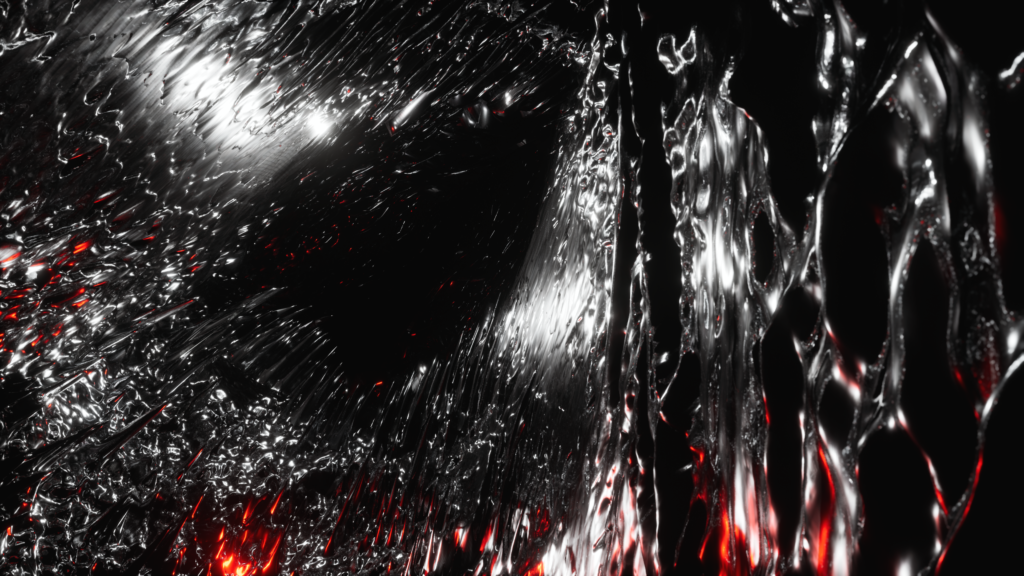
История солярной кабалы
Согласно энергетическим моделям психологии (Фрейд, Райх, Ференци и проч.) органическая система — в силу своей консервативной и экономичной природы — стремится зациклиться (to fixate) на первом же заоблачном источнике энергии, с которым напрямую встречается. Этот источник должен превышать продолжительность жизни органической системы и выделять проблематичное количество энергии, превосходящее пропускную способность органической системы. Потребление этой заоблачной энергии тем самым становится для организма проблемой. Следовательно, модусы или курсы жизни фактически выступают решениями, найденными и разработанными организмом перед лицом проблемы потребления. Другими словами, идеи о том, как жить, сводятся к решениям, позволяющим использовать (to afford) заоблачную энергию. Чем разнообразнее становятся решения организма, тем легче ему маневрировать между различными жизненными курсами и тем крепче он привязан к своему заоблачному источнику энергии. Эта растущая зависимость от заоблачного источника энергии посредством приумножающихся оков жизни сингуляризует заоблачный источник энергии в качестве единственной для организма модели расточения (dissipation), то есть единственной модели смерти и единственного выхода. Соответственно, заоблачная энергия провоцирует и навязывает плюральность модусов жизни, но только в согласии с консервативной и экономичной природой организма. Плюральность жизни внедряется за счет монизма в смерти. И именно монизм в смерти — как способ вгибания во внешнее (или то, что является внешним по отношению к организму) — строго ограничивает образ экстериорности, связанный с космической бездной, и тем самым предотвращает радикальные изменения в жизни и ее авантюрах.
Организм стремится умереть, или, точнее, стремится открыться внешнему горизонту посредством тех же энергетических моделей и каналов, от которых консервативно защищает свою витальную экономию. Проще говоря, организм склонен использовать ту же самую энергетическую модель для своей смерти — или открытости тому, что является по отношению к нему внешним — как модель, которую он прежде использовал для сохранения энергии и жизни. Эта повторяющаяся энергетическая модель фундаментально устанавливается источником заоблачной энергии и, таким образом, реализует как травмирующие эффекты избыточной энергии, так и ограничения, внутренне присущие источнику энергии, который сам по себе является очередным интериоризованным горизонтом, окутанным бездонным космическим фоном. Поэтому несмотря на то, что жизнь может проявляться плюрально в качестве возможностей для диверсификации и усложнения, вызванных различными экономическими способами сохранения заоблачной энергии, смерть, или связывание экстериорности (binding exteriority), возможна лишь одним и только одним способом. Этот способ качественно и количественно лимитирован тем, что он строго соответствует фундаментальным ограничениям внешнего источника энергии и тому, как эти ограничения усиливаются в консервативной экономии организма. Любой образ экстериорности, обещанный организму или созданный для него заоблачным источником энергии, останется в пределах и границах самого этого источника энергии.
Для нас этот заоблачный источник энергии — Солнце и его солярная экономия. Солярный избыток развил консервативный образ мысли, в рамках которого можно растратиться или умереть лишь в соответствии с той моделью энергетического расточения, которую внедрило в земные организмы Солнце. Мы можем позволить себе множество модусов сохранения или различных способов жить, но умереть должны лишь так, как то было продиктовано присущей Солнцу энергетической моделью растраты. Именно в этом смысле предложенная Жоржем Батаем модель всеобщей, или неограниченной, солярной экономии сама по себе является формой ограниченной экономии, чье ограничение находит выражение не в ее относительно разнообразных способах жизни, а в отказе от тех способов смерти, или связывания экстериорности, что не могут быть индексированы экономической корреляцией между солярным избытком и консервативными структурами земной биосферы. Для земной биосферы доминирующая модель умирания, или, точнее, «открытости внешнему», сводится к «бытию открытым Солнцу», то есть к нахождению в целом допустимого (generally affordable) потребительского решения проблемы солярной траты. Иными словами, открытостью Солнцу порождается (conjure) не гиперболический Икарианский гуманизм, как некоторые могли бы возразить, а скорее ограниченный Ингуманизм, для которого экстериорность лишь увековечена солярной экономией и вгибанием в смерть (inflection upon death), а экстериорность ограничена смертью от Солнца и через диссипативную энергетическую модель, им диктуемую. По этой причине солярная экономия является ограниченной моделью открытости, или вгибания в смерть, и экстериорности, поскольку она влечет за собой возможность плюрализма в жизни лишь ценой строгого монизма в смерти. Вектор мышления, сконфигурированный солярной экономией, ничего не знает о свободе альтернатив в отношении смерти как вектора экстериоризации, или распускания (loosening) в космическую бездну. Исходя из этого следует извратить декартову дилемму: не «По какому жизненному пути я последую?», а «Какой выход я выберу?». Именно последний вопрос радикально порывает с ориентированными на жизнь моделями эмансипации, чьи мнимые возможности в жизни и отказ от смерти — не что иное, как проявления гелиоцентрического рабства.
Экологическая эмансипация в направлении великого внешнего, «новой Земли» (Делёз и Гваттари) или земной бездны требует не альтернативных способов жизни, коими перегружен капитализм, а альтернативных способов связывания экстериорности космической бездны, или вгибания в смерть (как разума, так и материи). Независимо от того, идентифицируются ли они как модусы радикальной открытости (пути распускания в бездну) или вгибания в недиалектическую негативность (умирание иными способами, нежели те, что допустимы организмом), альтернативные способы связывания экстериорности мобилизуют земную сферу в соответствии с климатами космической бездны. Тем не менее, как было показано ранее, в терминах космической бездны климаты суть чистые контингентности, а значит, прочерчивают предельно запутанные траектории, вдоль которых различные горизонты интериорностей развязываются и распускаются в зияющую пропасть. Если солярная экономия и связанный с ней капитализм жестко монистичны в смерти, то это потому, что само Солнце есть контингентность, чья интериоризованная концепция пребывает в процессе распускания в бездну — контингентность, которая склонна манифестировать себя в качестве необходимости, дабы воспрепятствовать вторжению иных контингентностей как климатов. Ибо вторжение контингентностей через другую контингентность — как в случае умирающего Солнца — это химическое путешествие, в котором солнечный горизонт распадается на бесчисленные иные контингентности, каждая из которых несет тысячи поворотов и завихрений, придавая глубине бездны вложенный изгиб (twist), который асимптотичен ее радикальной экстериорности. В этом смысле жизнь на Земле есть контингентность, порожденная разлагающимся Солнцем, чье тело, уже будучи трупом, попрано космическими климатами как вторгающимися контингентностями.
Капитализм, или рынок Солнца на планете
Как и все формы рабства, гелиоцентризм имеет свою собственную рыночную стратегию; она называется базо-капитализмом. Для шизофренического капитализма, в то время как все должно быть ускорено до техно-экономического расплава по линиям траты, укоренившимся в солярной экономии, способы жизни как все более извилистые обходные пути к смерти должны быть не только приняты, но и решительно утверждены. Кажущаяся парадоксальной склонность капитализма — то есть сопутствующий ему динамизм в направлении танатропического расплава и его защита образов жизни — сводится к очень простому факту, что для Солнца феномен жизни на планете есть всего лишь модальный диапазон растраты энергии, предписанный солярной экономией и допускаемый органическими системами. Этим не просто предполагается, что смерть — особенно для планетарных сущностей — неизбежна, но что такая смерть, или вектор экстериоризации, ограничена лишь теми модусами энергетической растраты (образами жизни), которые Солнце навязывает планете. И все же эти модусы энергетической траты, экстериоризующие Землю, сами включены в экономию Солнца, которая также отмечает его экономические ограничения и пределы допустимости на его внешнем, бездонном космическом фоне. Капитализм, в этом смысле, скрывает свою ограниченную экономию в отношении космической экстериорности (или смерти) путем перепроизводства укладов, или образов жизни, которые в действительности выступают различными тарифами энергетического расточения, или обходными путями траты. Иными словами, капитализм, который террестриально окутывает ограниченную экономию Солнца в отношении смерти и экстериорности, маскируется под так называемую всеобщую и свободную экономию в отношении жизни и проблемы потребления.
Интериорность жизни на Земле покоится на термоядерной интериорности Солнца, которое само является контингентным на внешнем космическом фоне. Солярный капитализм — это лишь рынок представления Солнца как одновременно неизбежной и непостижимой в своем богатстве экстериорности для планеты и для земной жизни, [рынок] сбыта энергетической модели Солнца в качестве единственного пути к великому внешнему бездны. Однако именно Солнце ограничивает образ такого внешнего и сужает спекулятивные возможности, вытекающие из привязанности мысли к радикальной экстериорности. Согласно виталистически плюралистическому и танатропически монистическому режиму солярной экономии Земля может быть переизобретена и перестроена лишь как новая планета, или солнечный раб, чьи жизнь и смерть решительно определяются его звездой, или заоблачным источником энергии. На такой планете авантюры мысли и искусства обременены узкими рамками в отношении космической экстериорности, навязанной Солнцем, а также аксиоматическим подчинением земной жизни империи Солнца.
Точно так же, как плюралистический режим жизни, присущий солярной экономии, паразитически водолюбив, потворство капитализма образам жизни и виталистическим околичностям имеет интимное сродство с земными соками. Солярная модель потребления может дублироваться в качестве доминирующей энергетической модели везде, где возникает жизнь, то есть везде, где существует вода. Вода может реализовывать энергетические особенности солярного климата вполне виталистическим образом и, тем самым, воспроизводить солнечную модель энергетической траты в манифестациях жизни. Схожим образом капитализм вынюхивает планетарные воды, дабы использовать свои модели накопления и потребления посредством их химических потенций. Это делается не только для того, чтобы использовать гидравлическую эффективность земных вод для распространения рынков и осуществления торговли, но и, что важнее, для того, чтобы наложить и связать свои индульгенции с самими определениями и основаниями жизни. Коль скоро земные воды (или жидкие формы в целом) тесно связаны с формулой жизни, инвестируя в них и действуя через них, капитализм также может придать биополитический смысл неизбежности [biopolitical sense of inevitability] (в терминах роста и витальности) своим правилам и своей деятельности. Растворяясь в земных водах, капитализм, как и солярная энергия, может создавать на планете свои собственные климаты, или контингентности, вызывая возникновение новых территорий, линий миграции и преобразования. Однако вода является открытым приемником химии как прикладной динамики контингентностей. Как упоминалось ранее, если земные воды суть аттракторы контингентностей, или химии, то они реализуют не просто солярные климаты, но и энергетические модели динамизма, связанные с иными контингентностями, или космическими климатами. Соответственно, земные воды выливаются в места, где контингентности вторгаются в уже установленную и интериоризованную контингентность, которая в случае планеты Земля представляет собой солярную экономию Солнца с его ограниченными климатами. Стало быть, земные воды являются агентами соучастия, посредством которого космические климаты вторгаются в интериорность самой земной жизни. Именно это вторжение космических климатов прочерчивает линию экстериоризации, или распускания в бездну, как для земной жизни, так и для климатов, порожденных Солнцем. Однако соучастие между водой жизни и космическими климатами, или тем, что мы называем химией, наделено химическим уклоном (slant); оно придает смерти жизни и воды странно продуктивные аспекты. Вторжение космических климатов в земную биосферу порождает динамику смерти, или линии экстериоризации, чьи выражение и динамизм являются скорее химическими, нежели спектральными, призрачными или хонтологическими (hauntological). Умирающая вода чернеет, превращаясь в груды слизи, и биосфера, питающаяся такой водой, соответственно умирает, или химически распускается в космическую экстериорность. Коль скоро эти смерти наделены химическим уклоном, они порождают больше контингентностей, или линий химических динамизмов, которые делают вселенную климатически странной (weird). Это климатическое соотношение умирающего Солнца и умирающей Земли, химически проецируемое в воду, было интригующе запечатлено художницей Памелой Розенкранц. Художественное предложение Розенкранц заключается в том, что вода — несмотря на свою явную лояльность к земной жизни — химически высвобождает потенции космических контингентностей, чье неизбежное вторжение в наш поверхностно солярный мир делает необходимой бездонную земную экологию.
Космическая экология и порядок странного
Жизнь экологически угасает по мере того, как ее воды умирают, или, точнее, по мере того, как они химически реагируют на иные космические контингентности, чьи климаты являются внешними по отношению к земной жизни и ее солярным оковам. Поскольку выражение умирающей воды означает не что иное, как химический брак воды с космическими контингентностями, экологическая смерть есть не что иное, как гибель через чернеющую воду, которая слишком химически сильна, чтобы поддерживать витальность жизни или стойкость выживания. Экологическая смерть становится формой нисхождения в космическую бездну, которая слишком химически продуктивна, чтобы считаться мизантропически мрачной или постгуманистически многообещающей. Эта экологическая смерть Земли сильно напоминает описание Виктором Гюго ужасающих луж парижской слизи: «[В] выгребной яме […] умирающий не знает, станет он бесплотным призраком или обратится в жабу. Могила всюду мрачна; здесь же она безобразна» (Виктор Гюго, «Отверженные»).
В скользких объятиях универсальной природы, чьи контингентности химически вторглись в воду жизни, экологическая смерть Земли есть странная химическая реакция, не порождающая никаких призраков — ни чтобы преследовать вселенную, ни чтобы требовать подобающего траура.
Быть истинно земным — не то же самое, что быть поверхностным, то есть это не то же самое, что рассматривать Землю в качестве планетарной поверхностной-биосферы (солнечного раба) или возвеличивать планету до положения Солнца (солярной гегемонии). Бытие подлинно земным требует предполагать смерть и чистую контингентность Земли в каждых уравнении, мысли, творческом подвиге и политической интервенции. Земная мысль принимает тленность (т.е. космическую контингентность) как свое имманентное ядро. Если принятие тленности Земли должно полагаться в качестве отличительной черты земной мысли, то это потому, что такая тленность — как утверждалось ранее — схватывает открытость Земли космической экстериорности не в терминах сопутствующих виталистических/некрократических корреляций (как отношение Земли к Солнцу), а в альтернативных способах умирания и распускания в космическую бездну. Под словом «альтернатива» мы подразумеваем те способы экстериоризации и раскрепощения, которые не продиктованы экономической корреляцией между Землей и Солнцем. Эти альтернативные способы связывания космической экстериорности, или погружения в бездну, прежде всего влекут за собой земную экологию, для которой и Земля, и Солнце связаны или схвачены как всего лишь контингентные и, следовательно, необходимо тленные сущности. По этой причине единственно верной земной экологией является та, что основана на одностороннем характере космической контингентности, которая не оставляет никаких шансов на сопротивление — лишь возможности для начертания схем соучастия. В этом смысле земное мышление и земное творчество должны быть сущностно связаны с экологией, но экологией, основанной на односторонних силах космических контингентностей, таких как климатические изменения, влечения к сингулярности, химические извержения и материальный распад. Любой другой способ мышления, купающийся в визуальных эффектах Земли как голубого мрамора или Солнца как заоблачного пламени, есть не что иное, как обращение в гелиоцентрическое рабство.
Перевод с английского Дениса Шалагинова