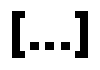Обряд и земля
Денис Шалагинов
Разве не в этом заключалась природа этой земли, […] не в преображении?
Адам Нэвилл, «Багрянец»[1]
Когда почва перестает быть привычной и уходит из-под ног, принято вспоминать о крови, которая, встречаясь с почвой, уже не просто течет, а скрепляет. Мир застывает в регионах, расчерченных «территориалистами»[2]: земля спускается с неба, и все встает на свои места. Быть может, «единство нужно дать»[3], но сперва следует разобраться в том, какое единство. Именно здесь, как мне кажется, кроется вызов, брошенный русскому космизму настоящим, и здесь же надо отыскать «интеринтеркосмистский» ответ на этот вызов[4].
Разговор об интеринтеркосмизме порождает два взаимосвязанных вопроса: во-первых, что представляет собой космос космизма, а точнее — как он производится, и, во-вторых, что находится в промежутках (и промежутках промежутков) такого космоса? Чтобы нащупать ответ, в этом кратком очерке я обращусь к тематизации обряда и земли в текстах Николая Фёдорова — отца идей, которые претерпели радикальное преображение в руках «сыновей», и прежде всего в анархическом биокосмизме Александра Святогора. Я вряд ли преувеличу, если скажу, что произведения Фёдорова и Святогора воплощают два полюса космистского воображения. Вслед за беглым рассмотрением их идей через призму концептов обряда и земли, не примыкая ни к одной из позиций, я попробую наметить между этими полюсами траекторию «укоренения» в почве-без-крови.

Свернутая почва
Космос космизма есть не что иное, как рекосмизация, и в этом смысле «что (есть космос)» совпадает с «как (он производится)». Иначе говоря, такой космос никогда не дан — и не был дан[5]; он, скорее, планомерно переутверждается через обряд. Таким образом, в основе общего дела лежит рекурсивная операция, то есть возвращение, которое выступает сразу и средством, и целью, высвечивая содержание сквозной фёдоровской идеи: «смысл братства заключается в объединении всех в общем деле обращения слепой силы природы в орудие разума всего человеческого рода для возвращения вытесненного»[6]. Что именно вытеснено, а что возвращается? Строгим ответом будет прошлое, поскольку в отрешении от него и состоит «болезнь века», лишившая жизнь смысла[7]. Точным — мертвые («отцы»), а значит, земля — гигантское кладбище, вместившее в себя «столько поколений, сколько в пространстве вселенной есть миров»[8], и как раз эти поколения должны быть возвращены к жизни. Но как это сделать? Опять же, через обряд. Другими словами, возвращение множится: за одним возвращением кроется другое — и прежде всего надо вернуть исходный смысл обряда, претерпевший инверсию. Фёдоров говорит, что обряд погребения изначально был направлен на оживление[9], а значит, представлял собой орудие воскрешения — и как раз эту функцию требуется восстановить.
Таким образом, если земля — это кладбище (а в пределе — вещество[10]), то обряд — техника, «средство к собиранию»[11]: ключевой компонент общего дела. Но для того, чтобы техника работала эффективно, нужно устранить разрыв между обрядом и жизнью. Этот разрыв делает обряд «еще мертвее»[12], но можно ли обратить смерть при помощи мертвого орудия? Сначала надо оживить само орудие, и как раз поэтому требуется трансформация обряда во внехрамовое дело, «всесуточное и всегодовое»[13]. Соответственно, храм выворачивается в мир, а последний, таким образом, превращается в возрожденный храм предков, который поддерживает особую связь с сельским воображением, то есть, в конечном счете, с землей. Как утверждает Фёдоров:
Само земледелие, хотя оно и имеет дело с живою природою, с живыми силами, и, обращая прах предков в пищу потомкам, хотя и носит в то же время эту пищу на могилы умерших, не восстановляет, однако, жизни отцов в действительности; так что земледелие со всеми его обрядами есть только прообраз воскрешения, есть воскрешение только в живом воображении сельского язычества[14].
Но из того, что земледелие — прообраз, вовсе не следует, что переход к действительности равнозначен отказу от обряда, совсем наоборот: необходимо интериоризировать сельское язычество как землю — примирить воображение с разумом в материалистическом синтезе анимизма и православия; синтезе перформативном, так как, переводя трансцендентное в имманентное, он, опять же, выполняет функцию обряда[15]. Иными словами, земля — это не просто кладбище, это, по сути, интенсивные условия общего (земле)дела(ния). Пасха, как имманентное воскрешение, есть продукт размыкания «кабинетного представления» через возвращение ученой мысли в почву живых сил. Там, где философия, идя в ногу с модерном, превращает «одушевленные существа в вещи», народное мировоззрение, наоборот, даже «вещи одухотворяет»[16]. Таким образом, сельский хоровод, или солнцевод, трактуемый как (прото)регуляция, становится почвой для преобразования анимизма в материалистический проект. Разрыв между мыслью и делом устраняется в музее как обрядовой мегамашине. И если хоровод лишен действительной силы, то музей-обсерватория — действенное орудие радикального просвещения и тотальной регуляции, позволяющее вразумить слепые силы, а в пределе «оторваться» от земли, чтобы «биологизировать» вселенную[17]. Но имеет ли место реальный отрыв от земли? Едва ли. Во-первых, потому, что в плане опыта мы остаемся на ней[18], что прекрасно иллюстрирует фёдоровский сценарий биологизации/антигравитации: «сыны человеческие делаются способными к переходу на планеты, и на каждой планете повторяют то, что было сделано на земле»[19]. Во-вторых, дело в интенсивной памяти музея как машины, в которой свернут окольный путь в будущее — перевод города в село. Иначе говоря, как я попытался показать выше, декосмизирующий разрыв между мыслью и делом устраняется путем странного заземления мысли, которая буквально ре-анимируется через восстановление связи с одухотворяющими силами сельского воображения. Стало быть, в промежутках космоса, в его порах упорствует земное прошлое, прорастающее в будущее. Агрофутуризм.
Принимая форму воскрешения мертвых, возвращение вытесненного в проекте общего дела является регулятивной идеей, которая позволяет примирить традицию с прогрессом[20] путем рационализации, достигающей апогея в превращении земли из кладбища в корабль. Обращенная в космо-ковчег, земля засеивает семенами бессмертия «пустоту» вселенной — одухотворяющими семенами земного происхождения. Таким образом, проект общего дела проводит линию материализма, в котором материя не противопоставляется духу, а дух не просто порождает технику рекосмизации, а от нее неотделим. Однако этого одновременно и слишком много, и слишком мало. Несмотря на то, что Фёдоров (в отличие от Хайдеггера) не подчиняет технику делу мысли, выводя ее за пределы техно-логоса к «делу дела»[21], такое выведение останавливается на полпути — в итоге мы имеем не «поджог», а регулируемый вечный огонь, в свете которого музей предстает машиной фациализирующего воскрешения. Иначе говоря, силы земного прошлого переводятся в лица[22]; то есть преодоление локализма происходит через локализацию, замыкание праха в заданной форме. Таким образом, музей бесперебойно воспроизводит лица; а значит, вопреки фёдоровской нелюбви к бездушному модернистскому механицизму, общее дело обретает сходство со сборочным конвейером, — «это не творческое преображение, а механическое восстановление»[23], — здесь Святогор попадает в точку. Попробуем вытянуть ее в линию и посмотрим, куда она нас заведет.
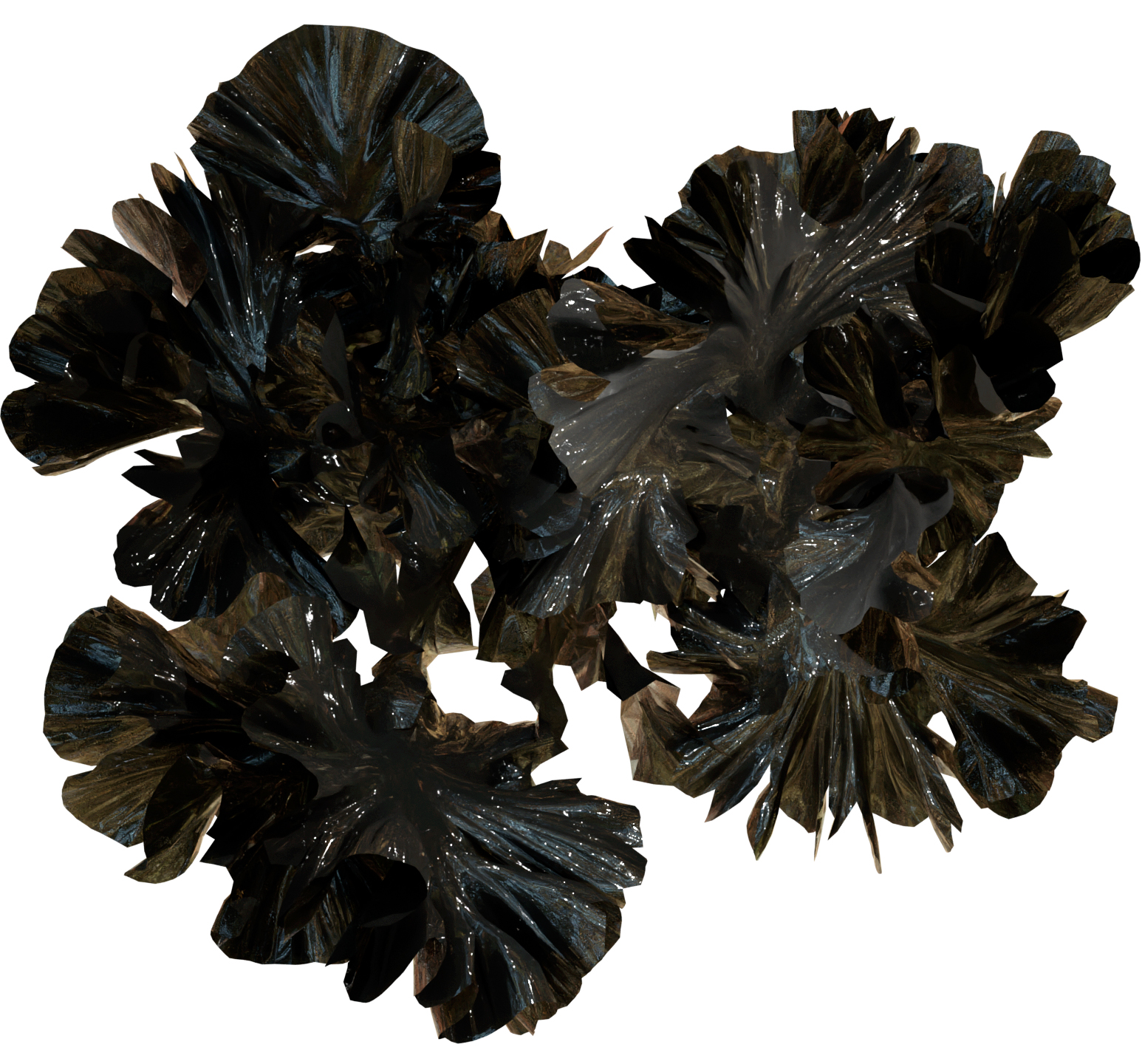
Косметология магмы
В руках Святогора космос космизма становится косметикой: техника разрумянивается, а обряд обращается в оборотничество. В биокосмизме «даже земля не равна себе», ведь она «приходит в движение и взвулканивается»[24], то есть земля здесь мыслится как интенсивно-бестиальная: она тоже оборачивается, в пределе — из «мяча земного», который «мал» и «тесен»[25], в (био)космический корабль. Как объясняет Святогор, «нас слишком шокирует то, что земля, точно коза на привязи у пастуха — солнца, извечно каруселит свою орбиту», поэтому «пора иной путь предписать земле»[26]. Иными словами, в биокосмизме намечается детерри(-)зация, где terra перестает быть firma, чтобы торить новые тропы сквозь космос, которого, впрочем, никогда не было. И здесь мысль Святогора резонирует с фёдоровской: космос делается, «ведь если бы мир был гармонически законченным, готовым, то не было бы места не только для нашего, но и для любого дела»[27]. Анархизм-биокосмизм объявляет войну не только натуральному порядку, сеющему смерть, но и всякой «стабилизации», мысля последнюю как продукт (раз)балансировки сил. Любая «гармония» контингентна: «космос» пересекается фрактализацией промежутка — «различием между двумя “между”, различием в повторении между»[28], — и как раз в этом спекулятивно-поэтическом mise en abyme бьются биокосмические сердца и разворачиваются личные бездны. Смысл «интер» в (био)космизме меняется — уже не «сорняки» земного прошлого, но избыточная магма, а значит, сгибается и вектор возвращения — от механической репродукции к межпланетной вулканреволюции (больше никаких долгов!):
Интерпланетаризм возвращает планетам их странничество. Взвулканивает их, срывает с их унылых однообразных маршрутов и делает целующимися и плодящимися солнцами. Теперь странники странствуют не в пространстве стабильных законов, а промеж стабилизаций[29].
Итак, все законы дестабилизируются — все, кроме одного: запрета на усталость; ведь если смерть не устает, то и материи нельзя[30]. Но как этого добиться? Брать пример с машин — прыгать, крутиться и учреждать «свободу соединений и разъединений»[31]. Радоваться, как играющий зверь, или жить интенсивно, «как лосось, плывущий вверх по течению, чтобы оставить потомство и [не] умереть»[32], а плыть дальше. Пролиферация на пролиферации, & so on, & so on. Возвращение, как вулканреволюция, достигает космических скоростей, и в пределе такая революция — вариант, доступный лишь для смеющихся машин[33], но уж точно не для людей. Чего явно не хватает в магматическом хаосмосе, так это места для паузы. Соответственно, если в случае Фёдорова мы имеем «астрономический» завод по воспроизводству форм, то в случае Святогора «ликующую» жизнь-революцию, в которой формы едва ли способны удерживаться.

Между «здесь» и «не здесь»
Но земля не равна себе не только в биокосмизме. Как утверждает Святогор, «бессмертие и собственность несовместимы»[34]. Однако, прежде чем выносить этот вердикт, не следует ли спросить: какое именно бессмертие? какая именно собственность?
В эссе «Предки навсегда!» Элизабет Повинелли, полемизируя с космизмом, разрезает бессмертие на два смысловых вектора: звезды и земля[35]. Как несложно догадаться, первый вектор относится к проекту общего дела, где вертикальное положение как бы выталкивает человека в астрономический режим наблюдения и, по сути, является решающим фактором антропогенеза[36]. Единожды восстав, человек уже не может отвести взор от звезд. Отсюда необходимость преодоления локализма вверх. В свою очередь, Святогор перерабатывает и усложняет эту модель, утверждая «взрывное движение во всех направлениях»[37]. В этом сценарии найдется место даже для «странных превращений», о которых пишет Повинелли, но эти превращения будут очищены от коннотаций распада. Единственное, для чего здесь не найдется места, — само место. И как раз этот аспект играет ключевую роль во втором смысле-направлении: «бессмертие плоти самым глубинным образом заложено в земле, из которой мы выходим и в которую возвращаемся»[38]. Иначе говоря, бессмертие есть не что иное, как (ре)генеративный цикл, в который вовлечены не только отцы, сыны и вулканные исполины, но и весь более-чем-человеческий мир, обитатели которого отнюдь не лишены «собственности», но последняя мыслится в ином ключе, через особую связь с местом. Как пишет Повинелли:
На языке эммиенгаэль слово mirrh отсылает к теням, сущности человеческого тела и специфическому более-чем-человеческому отношению, которое входит в человека при рождении и связано с местом, где он был зачат. Mirrh возвращается туда, откуда приходит, — к земле…[39]
Стало быть, «собственное» место — это не термин, а отношение; используя выражение Адама Нэвилла, я бы описал его именно через промежуток: «место где-то между “здесь” и “не здесь”»[40]. Между лицами и магмой, между над и под, то есть посередине[41], где непрерывно перерождается обитаемый космос, причем перерождается не в машинной логике соединений, а через сплетение. Дабы уловить разницу между двумя типами синтеза, следует вспомнить о грибах: «считать грибы — значит просто перечислять плодовые тела, игнорируя подземную сетку мицелия, из которого они появляются»[42]. Соответственно, в то время как курс общего дела отчетливо соматичен, вулканреволюция, скорее, из-подземна, и все же реляционная глубина мыслится Святогором поверхностно, в логике машинных стыков и разъемов[43]. Но стыковать можно только дискретные компоненты, уже отделенные от среды, а значит, обитаемый космос не может быть сугубо машинным. Вулканреволюция стартует с прививки бациллы бессмертия, которая позволит воздвигнуть новый космос[44], но для того, чтобы этот космос не был пустыней, ему требуется прививка микосмизма. Таким образом, не вертикальная астрономия-и-архитектура, но и не всенаправленная свобода соединений и разъединений, а отзывчивые нити мицелия, вплетающиеся в текстуры земли, (от)куда возвращаются не только отцы и машины.