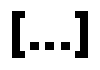Забродивший космизм: (счастливые) атомы и (слепые) стихии
Евгений Кучинов, Денис Шалагинов
[RU/ENG]
Бред — это космическое…
Жиль Делёз
[ферментация]
Отталкиваясь от эпиграфа из «Алфавита» и ныряя в русский космизм там и так, где и как мало кто решается, мы начнем с небольшого толковательного хулиганства, призванного выявить в текстах космистов некое плодотворное брожение.
Константин Циолковский начинает «Монизм вселенной» на пределе. С одной стороны, на том пределе, которым является смерть: «в мои годы умирают». Этот предел должен быть прочитан в контексте последующего, когда смерть будет описана как мгновенное переключение жизни из одной формы существования в другую, согласно «закону прогресса», более счастливую для входящих в нее атомов. Смертью формы утверждается счастье атома, и «Монизм вселенной» пишется на пороге этого грядущего счастья, представляя собой что-то вроде горячечного брожения ума, предсмертного делирия. С другой стороны, Циолковский пишет это «резюме» без веского на то основания, «не окончив еще многочисленные основные работы», из чистого порыва подарить счастье и радость тому, кто за эту книгу возьмется. Порыва, выходящего за границы мыслимого отдельным человеком. В этой связи он замечает, что его идеи могут быть приняты за слова безумца, который верит в говоримое настолько, что не отделяет его от реальности. Иными словами его идеи могут быть спутаны с мистикой, оккультизмом, спиритизмом, темной философией и всеми прочими видами упования на тот или иной авторитет (кроме авторитета точной науки). Это пункт можно истолковать как радикализм Просвещения, как отказ от мистического бреда в пользу рациональной трезвости (и отчасти так оно и есть). Однако здесь же Циолковский вставляет: «Если и опьяняет мое вино, то все же оно натуральное»[1]. Что он имеет в виду, противопоставляя «натуральное» опьянение научной точностью (делающей его трезвее любого позитивиста, но вместе с тем — дарящим беспрерывную радость, черпаемую из «чистого источника знания») и болтовню мистиков? Двоякое: с одной стороны, он указывает на необходимость поместить себя на тот край науки (и даже, не имея на то достаточных оснований, заглядывать за этот край), где она неотличима от галлюцинации, вызванной вином, где она выглядит не менее бредово и безумно, чем любая мистика. То есть, с другой стороны, речь идет об опьянении самой натурой. Циолковский явно использует материалистический аргумент, в котором не противопоставляется натуральное и искусственное, но натуральное брожение противопоставляется брожению мнимому, дающему лишь мнимое опьянение, или опьянение самой мнимостью. Вино Циолковского не только реально, но и вызывает опьянение самим Реальным, ведь оно — концептуальный результат ферментации естества. Брожение (или бред) Реального, необходимо обнаружить в вызываемом им эффекте (ум пьяного начинает бродить) — и в самом тексте Циолковского. Конечно, может случиться так, что почти за сто лет это вино выдохлось (в адрес «Монизма вселенной» высказывалось достаточно критики). Но это лишь означает, что сам текст в данном случае необходимо не читать, а (повторно) сбраживать, заставлять бредить, возвращая в него некий градус, некую воспламеняемость Реального. Для этого необходимо заглянуть туда, где сегодня располагается «натуральное» опьянение, — туда, где природа (бродит и) опьяняет, но при этом опьяняет трезвостью.
Соединяя предел смерти и предел мыслимости, мы получаем множественность процессов брожения (естества) и бреда (естествоиспытателя), объединенных у Циолковского в «картинное изображение чувственной жизни атома». Его надлежит интерпретировать не с точки зрения современной науки (с которой атомизм Циолковского не может быть воспринят всерьез), но, скорее, с точки зрения того (вненаучного) края, где сегодня производится «трезвый бред», трудно отличимый от мистики.
На одной из страниц «После конечности» Квентин Мейясу указывает пункт, в котором его идеи становятся наиболее бредовыми. «Все знают поговорку, согласно которой нет такой глупости, которую не отстаивал бы всерьез кто-нибудь из философов; любезно заметим, что доказательство ложности этой поговорки в том, что осталась еще одна глупость, которую еще никто не отстаивал — и именно мы ее нашли»[2]. Этой глупостью является контингентность законов природы, которая приоткрывается по ту сторону корреляционизма — в спекуляции — то есть операции, в которой мир мыслится по ту сторону его данности мышлению. Мейясу описал галлюцинаторный вненаучный предел спекуляции в эссе «Метафизика и вымысел вненаучных миров», где мир по ту сторону данности мышлению описывается как такой, в котором «экспериментальная наука на деле невозможна, а не просто по факту неизвестна»[3]. Предел смерти также не ускользает от спекуляции, которая должна «не высказывать универсальные свойства всякого существующего, но говорить о том, на что похожа смерть в нашем мире»[4]. Как обнаружилось впоследствии, за поворотом, начавшимся с отвержения корреляционизма, пути спекуляции разошлись в вопросе о том, что необходимо утверждать, когда корреляционизм отвергнут. В обозначившемся раздвоении наметились соревнующиеся в радикальности крайние позиции: элиминативизм и панпсихизм[5]. (На похожей развилке находилась сто лет назад и мысль Циолковского). При этом элиминативизм выглядит предельно — нигилистически — трезво. Он представляет собой взгляд, согласно которому не только природа целиком лишена жизни, чувства и мысли, но и любая разумная жизнь выглядит на этом фоне как величина, которой можно пренебречь, отдав ее на откуп «истины вымирания»[6]. Рядом с ним панпсихизм, утверждающий вездесущность жизни и чувства, выглядит вполне бредово, что охотно признается его сторонниками[7]. Сохраняя верность избранной линии, мы двинемся именно в направлении «ферментации», то есть панпсихического сбраживания и бреда.
[точка]
В романе «Пространство мертвых дорог» (1983) Уильям С. Берроуз намечает контуры плана по всечеловеческому объединению. Необходимым условием последнего якобы может стать лишь «планетарная космическая программа». По Берроузу, достаточно превратить Землю в космическую станцию, чтобы любые войны прекратились. Зачем «членам экипажа» воевать, если они трудятся вместе с симпатичными им собратьями, с которыми разделяют определенные по взаимному согласию цели — те, что в перспективе принесут выгоду всем? Незачем — при условии сознательности экипажа. Исходя из этого Берроуз заключает: «Счастье есть побочный продукт осмысленной деятельности»[8]. С похожей «рационализацией» счастья — вкупе с утверждением единства — мы встречаемся и в атомистическом панпсихизме Циолковского.
За год до появления в печати «Пространства мертвых дорог» в городе Горьком выходит небольшой сборник «Больные шизофренией читают Циолковского», изданный группой энтузиастов «ВЕК». Он состоит из десятка отредактированных расшифровок диктофонных записей, в которых пациенты горьковских психбольниц делятся впечатлениями от «Панпсихизма» Циолковского, давая этому тексту самые неожиданные интерпретации, по большей части ставящие «рационализацию» счастья под вопрос, отклоняя ее от прямого ratio — к блуждающему deliratio. «Призывы к радости эти в самом начале, эти обещания счастья по-настоящему лишь <…> чистейшая пропаганда ужаса»[9]. Мы проведем мысль Циолковского по обеим траекториям: и счастья, и ужаса — и посмотрим, остается ли что-то в промежутке.
Теория Циолковского зиждется на трех тезисах, уяснение которых полагается ключевым для «сознательного существа». Первый — о субъективной непрерывности жизни, второй — о ее беспредельности, третий — о ее блаженстве. Уяснение этих постулатов требует взгляда на жизнь «с высоты космоса»[10]. Здесь заявляет о себе причудливый сплав «двух разумов». С одной стороны, Циолковский, следуя по пути модерной рациональности, предлагает нам отказаться от всего неясного в пользу точной науки. С другой — обращается к досократическим вопросам о том, из чего сделан мир, и что его удерживает вместе. По сути, его версия панпсихизма комбинирует базовые онтологические позиции Гераклита и Парменида («все непрерывно» + «все едино»), а началом полагается атом-дух, обладающий способностью чувствовать радость и горе[11]. Циолковский резюмирует свой замысел так:
Мы проповедуем монизм во вселенной — не более. Весь процесс науки состоит в этом стремлении к монизму, к единству, к элементарному началу. <…> Монизм в науке обусловлен строением космоса. <…> Я прибавлю к известным уже видам единства и всеобщую чувствительность материи, потенциальную способность каждого атома… жить. Мозг мыслит, но чувствуют атомы, его составляющие. Разрушен мозг — исчезло и напряженное чувство атомов, заменившись ощущением небытия, близким к нулю[12].
Здесь, как мы видим, «физика» встречается с «метафизикой», задавая специфический режим удерживания не(со)возможного, чреватый невозможностью удерживания. Иными словами, схватывание двух несводимых типов рациональности в едином устройстве погружает атомистический панпсихизм в то, что, апроприируя выражение Томаса Пинчона, можно было бы назвать «ревущей тьмой диссонансов»[13]. На этой шероховатой почве выстраивается характерная «биоэтика», неотделимая от утверждения примата совершенства. Дело в том, что, по Циолковскому, «атому невыгодно существование в космосе несовершенных животных, вроде наших обезьян, коров, волков, оленей, зайцев, крыс», как «невыгодно существование несовершенных людей»[14]; отсюда вытекает императив исключения несовершенства в космосе. Побуждаемые разумом как «истинным эгоизмом» протагонисты совершенства призваны «безболезненно ликвидировать» все «страдальческое». Это требование обусловлено онтологическими настройками доктрины Циолковского вкупе с верностью модерному «закону прогресса»: (1) атом интенсивнее чувствует жизнь в высших существах (эмпирически доступной мерой высшего сущего здесь выступает человек), (2) закон прогресса подталкивает к сопровождаемому продуктивной евгеникой ускорению эволюции во благо атома. Результат — метастатическое расползание разума и счастья. Эту систему в ее единстве можно рассматривать как «микрофизическое коперниканство», как радикальную критику антропоморфизма и антропоцентризма (а также геоцентризма), ведь человек (и Земля) здесь — не более чем контейнер для субъективно непрерывной жизни атома, чья судьба — перерождаться в новых материальных сборках, в новых формах-жизни. Человек всегда-уже «подорван» (sensu Харман), сведен к статусу платформы, или плодоносной почвы для наиболее интенсивного чувствования атомов.

Здесь же мы соприкасаемся с ужасом. «Счастье атома — это когда меня тошнит. Когда я полностью выблевываю себя, атом достигает счастья. Когда тело стряхивается»[15]. В чем здесь проблема? «Больной М., 38 лет» задается вопросом о вхождении атомов в человека и выходе их из него, делая вывод: входящий атом — счастлив, выходящий — неизбежно, в силу «закона прогресса», еще более счастлив, тогда как человек от этого лишь страдает: «меня рвет на части. Атом идет по лестнице вверх, а я — ступенька, по мне топчутся. <…> По коровам и собакам маршируют»[16]. Это делирическое возмущение не грезит возвращением к антропоморфизму и Земле, к человеческой размерности жизни[17], скорее это возмущение формы как таковой, формы как различения[18]. Действительно, атомы эксплуатируют форму, сами формой не обладая: «неделимое не знает объема — ни абсолютного, ни относительного. Оно есть точка. Не имеет формы»[19]. Форма — не только временное пристанище атома, она сама по себе — лишь временное средство, которым «с высоты космоса» можно пренебречь. Множественные времена форм заканчиваются в существе, созерцающем (абсолютное) время, «ровно живущем, не умирающем и не спящем». «Существо это, конечно, воображаемое», замечает Циолковский[20], однако именно на этом воображаемом пределе атом достигает окончательного счастья, совпадая с ним. Не случайно Циолковский буквально обмирщает формулу Николая Кузанского о совпадении максимума и минимума, используя ее для описания структуры универсума: «центр материи везде, а край нигде»[21]. У этого воображаемого существа так же нет формы. В нем сонное брожение атома от формы к форме завершается, и наступает полное его пробуждение: совпадение субъективного и абсолютного времени, времени и пространства, атома и его обстановки. Это существо неизменно в своей бесформенности (всякое изменение происходит на стороне формы), оно размножается нисходящими копиями-деградантами, в нем прекращается чувствование (редуцированное к чувствованию копии). Восходящее движение атома, которое можно назвать вселением (в формы-времени, в тела), сменяется в этой точке нисходящим порядком заселения (точнее было бы назвать его поглощением). Формула «нет времени ждать» (самозарождения или «мучительного развития» форм-жизни[22]) характеризует этот порядок как нетерпимый в отношении длительности и становления, она является полной противоположностью формулы Анри Бергсона «я должен ждать, пока сахар растворится». За мучительными формами-жизни остается в этом порядке лишь функция «обновления», полностью поглощенная невоздержанным совершенством, полностью от него зависимая.
Лестница, на которой в одну сторону разворачивается восходящее движение атома, а в другую — сворачивается нисходящее движение подобий совпадения, различается лишь в ступенях (совершенства). Иными словами, на ней существуют лишь различия в степени, но не по природе (Бергсон). Следствием этого является то, что «с высоты космоса» теряют значение формы-жизни как сингулярные различения, а следовательно стирается различие между средними и крайними формами. Крайние формы (новизны) образуются метаморфическим отклонением, исходом, брожением и бредом формы как таковой, в них само страдание становится объектом утверждения, — тогда как средние формы (тождественного) держатся борозды, маршрута, начальная и конечная точки которого заданы уклонением от страдания. Действительно, страдание у Циолковского полностью располагается на стороне крайних форм (сама форма-жизни у него представляет собой избыточную, подлежащую поглощению крайность), тогда как у атомов, буквально, нет времени страдать. С точки зрения крайних форм, различие между формами-жизни и атомами-жизни (или, в терминах самого Циолковского, между самозарождением и заселением) фундаментально, в нем решается вопрос о повторении. «С высоты космоса» повторение возможно лишь как повторение безразличного, тогда как сила различия остается на стороне «самозарождения», то есть повторения крайней формы.
[точка]
В эссе 2006 года «Быть реалистом: почему физикализм может повлечь за собой панэкспериментализм?» Сэм Колман рассматривает в качестве предпосылок панпсихизма две: «мализм» (smallism) и «очевидность» (perspicuity). Первая — метафизическая — представляет собой «взгляд, согласно которому все факты определены фактами о мельчайших вещах, которые существуют на самом низком “уровне” онтологии»[23], вторая — эпистемологическая — рассматривает «мализм» как априорный принцип. Посредством изысканной аргументации, суть которой состоит в том, что если мализм разумен как априорный принцип, то сама разумность должна быть распространена до нижайших слоев бытия, он приходит к выводу, лаконично сформулированному в примечании к другой работе: «если мализм верен, то панпсихизм тоже верен»[24]. Сходство — вплоть до мелочей — с аргументацией Циолковского поразительно. Так, например, мализм у Колмана неизбежно сочетается с «уровневым» (‘levelled’) представлением о существовании (лестница Циолковского) и является тем, что питает супервентность[25], которая, между прочим, является аргументом против эмерджентности (самозарождения Циолковского). Однако, возможно, именно здесь находится «корень ужаса», то есть средоточие концептуальной стерильности, в которой выскабливаются различия, которая заслоняет проход к проблеме повторения. Перефразируя самого Колмана: если мализм неверен, то может ли быть верен панпсихизм? Или радикальнее: не может ли получиться так, что если панпсихизм верен, то мализм (атомизм) неверен?
Против атомизма Циолковского может быть направлен моральный пафос другого космиста, Николая Фёдорова, который также видит в атомах разложение формы, но в противопоставлении атомов и формы встает на сторону последней, утверждая, что объектом Общего Дела является «сила рождающая и умерщвляющая, прах отцов, или молекулы и атомы, на которые разлагаются тела живших, силы слепые, неразумные, которые должны быть познаны и управляемы»[26]. Этот моральный ход полностью противоположен этике Циолковского, в нем заявлен тезис: если созерцательно атомизм и верен, то это временно; атомизм должен быть опровергнут на деле. Аномальное сближение: показательно, что против атомизма Фёдоров использует язык сил, что роднит его с Фридрихом Ницше, который рассматривал атомизм именно как «неудачную интерпретацию силы»[27]. Ницше мог бы заметить, что атомы Циолковского, его неделимое — обделено становлением, буквально получено как результат его усекновения. Казалось бы, выигрыш атомов состоит в том, что они оказываются с избытком наделены временем[28]. Однако этот избыток оборачивается лишь тем, что времени ни на что нет (нет времени на страдание, на формирование).
Принципиальной здесь является проблема повторения[29]. Циолковский, доказывая, между прочим, что атом (а не форма) чувствует, решает ее слишком просто: «представим себе несколько одинаковых людей: один и тот же вес, объем, форма…»[30]. Это повторяющийся мотив: Циолковский предлагает мыслительный эксперимент, состоящий в том, чтобы представить совершенно одинаковые существа, между которыми нет никакого различия в форме. Отличается только атомарный состав. Один из этих одинаковых начинает страдать. Вопрос: будут ли страдать остальные (точно такие же) формы? Нет. Ergo: форма не страдает, страдает материя. Однако, во-первых, Циолковский мыслит здесь лишь средние формы, повторение которых дает копию. Тогда как повторение крайних форм — это другое (сложное, как называет его Делёз) повторение, оно дает не копию, а новое, крайняя форма — это форма новизны. Повторение новизны возможно лишь как различие, лишь как другое новое. Во-вторых, как показывает дальнейшее развертывание эксперимента (движение к самым низким уровням онтологии через деление содержимого формы), сам атом мыслится Циолковским в качестве неделимой частицы средней формы, как ее образец. Атомы, эти мельчайшие индивиды одинаковы (в своей бесформенной неделимости), это математические точки. Сущностные характеристики атомов это: неделимость, бесформенность и одинаковость, т.к. они отличаются друг от друга лишь негативно: этот атом не является тем.
Атомы, таким образом, получаются не столько путем усекновения формы, сколько путем обобщения средних форм. Форма средней формы — не просто абстрактно выводится путем деления имеющихся форм на мельчайшие-неделимые — она получается методом, характерным для средней формы, методом усреднения. Тогда как крайние формы выводятся иными методами. Делением/обобщением из крайних форм могут получиться лишь средние формы. Что противопоставить делению? Ничто: делению может быть противопоставлено только само противопоставление как обострение различия. Новые крайние формы появляются не благодаря старым крайним формам (могут ли крайние формы устаревать?), но вопреки им. И да, новые крайние формы появляются (вопреки запрету на самозарождение у Циолковского). Они целостны и появляются сразу в качестве крайних (т.е. не складываются из средних форм).
Необходимо (чтобы помыслить крайние формы, чистое различие и сложное повторение) утверждать: если первоэлемент и есть (т.е. необходим для утверждения жизни), то он должен мыслиться как крайняя форма. Это значит, что его нельзя мыслить как неделимое (скорее — как необобщаемое) и как одинаковое (скорее — как единственное). Иными словами, в онтологии сложного различия первоэлемент — не атом. Согласимся с Фёдоровым в целом: атом — это лишь прах первоэлемента. Первоэлемент как необобщаемая крайняя форма-жизни — это, скорее, стихия.
…
Однако, чего, судя по всему, не замечает Циолковский (а также Колман), атомизм (мализм), если позволить ему сбродиться до крайности, до стихийности, не выстраивает вертикальную лестницу различий в степени, но, скорее, сокрушает ее. Если верен панпсихизм. «Больной А., 44 года»: «Сначала мне показалось, что с ними нельзя сговориться, что они совсем несговорчивые, атомы. А то мы сговорчивые! А то мы счастливые! Но потом-то я догадался, что я-то тоже счастлив, когда они меня посещают. Когда я слушаю музыку, и атомы музыки входят в меня, когда я смеюсь, это атомы шутят, и я обо всем забываю <…> это атомы во мне забывают»[31].
[линия]
Линия бреда[32] — одна из ключевых тем «Диалогов» Жиля Делёза и Клер Парне. Чтобы наметить ее, Делёз прочерчивает различия между брожением и путешествием, бредом и воображением (предсказанием), чистым разрывом (предательством) и временем (трюкачеством). В такой разметке атомы Циолковского — это «французы», чьи путешествия «слишком исторические, культурные и организованные, где каждый доволен тем, что транспортирует свое “я”» с места на место, из одного времени в другое[33]. Тогда как у «Больного А.» атомы расползаются по линиям бреда, сходят с борозды совершенства, хохочут и выступают как изменщики, которые (по)могут все забыть. Описывая их как крайние формы «слепых стихий», то же самое видит в атомах Фёдоров. Его «проективный анимизм» начинается с формулы «анимист прав» (когда воображает себя и стихии живыми[34]), но сразу сбраживает ее укором в том, что эта формула одного лишь воображения, тогда как необходимо действовать. Активный анимизм мог бы быть резюмирован так: слепые стихии — ни живые, ни неживые, они еще не живые. Как они оживают? Посредством регуляции, — считает Фёдоров, — которая делает стихии послушными разуму органами. И пусть этот разум, требующий, по Фёдорову, воскрешения, вполне безумен, нас такой ответ не может удовлетворить, так как он держится на презумпции совершенства организма (даже точнее — Троицы). Нужно больше брожения.
Попробуем, погрузив доктрину (все)одушевленности в активно-анимистический контекст, выйти из панпсихизма, оставшись внутри него — и проложив маршрут к освобождению угнетенных стихий от совершенства. Начав с середины. Ведь самое интересное, например, в доктрине Циолковского колеблется между двумя нулями — нулем «небытия» и нулем «совершенства»: это (буквально) inter-esse. Другим его именем могло бы стать то, что Элизабет Повинелли зовет «иным» (the otherwise). С ее точки зрения, всякая сборка обладает теневой стороной: «устройство устанавливает свои собственные расстройства и переустройства», под которыми как раз и понимается (имманентное) иное; концептуальным синонимом которого выступает паразитирующий на чистоте послания шум[35].
Один из характерных «дефектов» модерной учености, как утверждает Тим Ингольд, состоит в том, что «наука, какой мы ее знаем, покоится на невозможном основании, ибо для того чтобы превратить мир в объект исследования, она должна поставить себя выше и вне того самого мира, на понимание которого претендует»[36]. Иными словами, ученым как бы запрещено находиться в мире, к объяснению которого они стремятся. Отталкиваясь от анимистического мировосприятия, Ингольд предлагает «повторно подключить познание к бытию, эпистемологию — к онтологии, мысль — к жизни»[37]. Проективный анимизм мог бы стать способом такого подключения, адресуя доктрине Циолковского вопрос: зачем щедро одушевлять всю материю, чтобы затем отбраковывать большую часть принимаемых ей форм? Линия брожения блокируется здесь фиксацией на «территории» совершенства. Но нельзя ли провести ее дальше, до своеобразного «итерриториалиата» материи? Здесь мы подходим к одной из наиболее крайних форм космизма, план которого прочерчен Братьями Гордиными: «космизм означает полное уничтожение современного территориального или империалистического порядка, который основан на частной собственности на территорию, т.е. на принадлежности данной территории одному господствующему народу»[38]. Этот план неотделим от его стихийности, но «слепота» стихии, действующей изобретательно, становится для них объектом утверждения: стихия может ошибаться. Кроме того, Гордины резко выступают не только против атомизма в частности и против науки в целом, но также против сил (за новую их интерпретацию): «Царство небесное и царство природы, ангелы, духи, черти, молекулы, атомы, эфир, Законы-Бога-Неба и Законы Природы, силы, воздействие одного тела на другое — все это вымышлено, создано обществообразно»[39]. В качестве «первоэлемента» выступает техника, которая понимается ими на манер πῦρ τεχνικόν стоиков, в качестве крайней формы всего. Она расшатывает любые стабильные территории совершенства, являясь своеобразным онтологическим imperfectum медиального залога: изобретать(ся). Поэтому, если политический лозунг космизма звучит у Гординых как «весь земной шар — всему человечеству», то общий онтологический тезис — лаконичнее и радикальнее: «все — всем», вся вселенная — всей одушевленной материи, где техника — это знак препинания, тире, линия бреда. Что значит прочертить ее?
Библиография:
- Берроуз У. Пространство мертвых дорог. М.: АСТ, 2010.
- Больные шизофренией читают Циолковского. Горький: Издательство «ВЕК», 1982.
- Гордины Бр. Страна Анархия (утопии). М.: Common place, 2019.
- Делёз Ж. Ницше и философия. М.: Ad Marginem, 2003.
- Делёз Ж. Различие и повторение. СПб.: Петрополис, 1998.
- Мейясу К. Итерация, реитерация, повторение. Спекулятивный анализ знака, лишенного смысла // Транслит. 2017. № 19. C. 77–85.
- Мейясу К. После конечности: Эссе о необходимости контингентности. Екатеринбург; М.: Кабинетный ученый, 2015.
- Пинчон Т. Энтропия // Иностранная литература. 1996. № 3 (https://magazines.gorky.media/inostran/1996/3/entropiya.html)
- Русский космизм: Антология. М.: Ad Marginem, 2015.
- Фёдоров Н.Ф. Собрание сочинений в четырех томах. Том первый. М.: Прогресс, 1995.
- Циолковский К.Э. Космическая философия. М.: ИДЛи, 2004.
- Циолковский К.Э. Космическая философия. М.: Издательство «Э», 2018.
- Brassier R. Nihil Unbound. Enlightenment and Extinction. New York: Palgrave Macmillan, 2007.
- Coleman S. Being Realistic: Why Physicalism May Entail Panexperientialism? // Journal of Consciousness Studies, Volume 13, Numbers 10-11, 2006. P. 40–52.
- Coleman S. Mind under matter // Mind that Abidies. Panpsychism in the New Millenium (Ed. by David Skrbina). Philadelphia: John Benjamins Publishing, 2009. P. 83–107.
- Deleuze G., Parnet C. Dialogues. Paris: Flammarion, 1996.
- Ingold T. Rethinking the animate, reanimating thought // Being Alive. Essays on movement, knowledge and description. London & New York: Routledge, 2011.
- Meillassoux Q. Métaphysique et fiction des mondes hors-science. Paris: Aux forges de Vulcain, 2015.
- Povinelli E.A. Geontologies of the Otherwise // Theorizing the Contemporary, Fieldsights. 2014 (https://culanth.org/fieldsights/geontologies-of-the-otherwise)
- Shaviro S. The Universe of Things: On Speculative Realism. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2014.