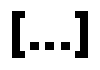(Экстра)сенсорика пространства: опыт из физиологии и геометрии ощущений XIX века
Ярослав Михайлов
Proviso
Повседневная история осязания начиналась бы со следующего наблюдения: мы всегда уже находимся в ситуации соприкосновения. Наше тело неизбежно контактирует с другими телами, органическими и неорганическими, с которыми мы разделяем общую сферу анонимной телесности. Этот механический аспект тела соседствует с эстетическим — мы не просто испытываем благодаря ощущениям температуру, вес, текстуру и форму других тел, столкнувшихся с нашим; мы (пока) еще чувствуем, на что способно наше тело в отношении других тел. Возможно, следом мы бы вспомнили о тактильной метафорике, о прикосновении как «непосредственном узнавании чего-то впервые». И если испокон веков метафора зрения (а с ней — оптики и света) является неизменной метафорой методического познания на дальних дистанциях, то осязание скорее связано с контактным зоопарком данных, находящихся «на кончиках пальцев». Но совсем иначе дела обстоят с «трогательностью» как способностью «быть затронутым», открытостью к эстетической событийности.
Здесь логика языка направляет нас из области высших слоев познания к примордиальным, дорефлективным слоям чувственности, собственно, к сфере αἴσθησις. И если прикосновение относится к внешнему физико-механическому контуру тела, то затронутость относится к внутренней разомкнутости того, что эти контуры скрывают. Однако и то, и другое указывает на двоякую воплощенность тела в мире. Осязание нельзя полностью утратить, не лишившись собственного тела как такового, чего нельзя сказать об утрате зрения. Более того, на освобождение от ощущения пребывания в телесной оболочке были направлены многие древние практики сенсорной депривации — например, темный ретрит в тибетской мистике, преобразующий материальное тело человека в состояние радужного тела, полностью состоящего из света. Однако, практикой как депривации, так и эмпансипации чувств может быть само письмо.
Мы постоянно что-то печатаем, набираем, скроллим, за чем-то протягиваемся и что-то достаём — в этих заурядных, доведенных до автоматизма жестах повседневной жизни нас сопровождают прикосновения, кинестезия и моторно-мускульные ощущения. Мы не видим наши внутренние органы, но вибрации и биения, идущие из самой толщи тела, напоминают нам об их наличии. Собственно, тактильность не локализуется лишь на поверхности тела, а простирается за пределы кожи вовнутрь — на сами глаза, внутренность уха, язык и ротовую полость и далее во внутреннюю геометрию телесных ощущений, туда, где мы чувствуем ушибы, переломы, различного рода травмы. Однако поверхность тела — кожа и слизистая оболочка — с точки зрения механики является объектом внешней геометрии, будучи поверхностью без глубины, окруженной пространством акторов. В этой геометрия прикосновения, исторические корни которой будут рассмотрены далее, мы являемся лишь твердыми телами, вписанными в фоновое однородное пространство и сталкивающимися с другими телами разных форм. Такое тело, как и любое неживое тело, прикасается, но не осязает.
Твердые тела непрестанно сталкиваются друг с другом, но никогда не узнают ни об этих столкновениях, ни о собственной телесности; все тела связаны друг с другом и с самыми отдаленными уголками Вселенной через воображаемую сеть прикосновений. Возможно, это единственный ключ к феноменальному опыту неживых объектов — им суждено лишь сталкиваться, лежать и приобретать или утрачивать форму под воздействием различных химических и физических процессов. Наиболее интересным объектом в этом смысле является почва — пористая среда прикосновения, определяющая морфологию и организацию жизни целых классов существ. Как рыбы принадлежат воде, так и почве принадлежат черви как оптимальные представители этого биотопа, функции которых — «взбалтывать» почву, приводя ее в движение, и образовывать пустоты, через которые почва насыщается влагой и воздухом.
Тактильность является древней и почтенной метафорой познания — долгое время концепции внешнего мира были основаны на том, что мы можем потрогать или увидеть. Немецкие и французские физиологи середины XIX века считали, что орган или существо, не способное двигаться, не может и воспринимать. Точно так же существо, лишенное осязания, считалось неживым. Позже, в феноменологических истоках теории воплощенного познания будет отстаиваться взгляд, согласно которому осязание является первичным и необходимым условием погруженности тела в материальный мир, а кинестезия и проприоцепция будут рассматриваться как подступы к конституированию материальности собственного тела.
Кинестезию нельзя отнять как зрение или слух, можно лишь на время приглушить при помощи анестетиков, но вместе с этим все тело (или его часть) становится анонимным, не принадлежащим нам. Воплощенность моего живого тела с точки зрения феноменологии конституируется из тактильности и сопряженных с ним — вкладываемых и обнаруживаемых телом в осязании — ощущений движения, тепла/холода, давления, боли — натальных ощущений, с которыми мы сталкиваемся, еще находясь в утробе. Такие «имеющие первичную локализацию в теле» ощущения являются условием наличности ощущений как таковых, в том числе более сложных визуальных и аудиальных восприятий. Тактильность — это своего рода «подземная стихия» тела, а прикосновение — это то, на что обречено любое тело, поскольку оно является телом.

Тело и прикосновение на стыке физиологии и геометрии
Научная история осязания оказывается сопряжена с приведенными сырыми соображениями. Значимая для нас история начинается с общих представлений естественной науки об ощущениях и связи осязания и зрения. Немецкая психофизиология второй половины XIX века установила тесный контакт между мышлением и ощущением, исходя из символической природы ощущений как знаков, которые синтезируют информацию об объектах, поступающую в органы чувств. Немецкий физиолог Герман Гельмгольц определял ощущение как бессознательный вывод по аналогии с системой логического вывода: восприятие при помощи ощущений буквально выносит «суждение» о внешнем мире. Схожая «логико-символическая» теория восприятия была сформулирована Германом Лотце и Джеймсом Миллем, но корнями она уходит в теорию познания ранних стоиков[1]. Экспериментальные и физические методы в психологии развивались вокруг исследований ощущений, специфики и различий органов чувств. В то же время тема мышления перестала быть прерогативой сугубо логико-математических штудий и стала предметом естественных наук.
Гельмгольц изучал роль мышечных ощущений при движении глаз и роль движения в зрительном восприятии расстояния; результаты своих трудов он изложил в трехтомнике «Физиологической оптики». Само название указывает на связь с классической картезианской и галилеевской наукой — геометрической оптикой — активно развивающейся в Голландии и Франции XVIII века в связи с изобретением телескопа и микроскопа. Продолжая эту традицию, Гельмгольц рассматривает человеческий глаз как оптический инструмент, работающий по геометрическим законам. Кроме того, Гельмгольц, как представитель физиологического неокантианства, попытался дать первое психофизиологическое обоснование геометрии, объясняя ее эмпирическичерез механизмы восприятия. Для него зрение само по себе — это прежде всего опыт расстояния, опыт распознавания предметов на дистанции, уяснение их расположения в пространстве. В этой связи примечательна теоретико-групповая гипотеза Гельмгольца 1868 года, которая впоследствии стала предметом интереса крупнейших геометров своего времени — Феликса Клейна, Софуса Ли и Анри Пуанкаре: «всякое первоначальное измерение пространства основывается на наблюдении совмещения. <…> О совпадении же вообще нельзя говорить, если твердые тела или системы точек не могут быть без изменения формы и если совпадение двух пространственных величин не есть факт, существующий независимо от всех движений» [2]. Здесь идет речь о том, 1) что такое свойство геометрических объектов как конгруэнтность («совмещение»)является определяющим для установления их тождества или подобия в геометрии Евклида, и 2) что об инвариантности формы геометрического объекта мы можем судить лишь при его движении (в случае геометрии Евклида, иные геометрии подразумевают иные типы преобразований).
Интуитивность геометрической теории групп Феликса Клейна состоит в рассмотрении геометрических объектов с точки зрения характерных них преобразований (движений), при которых они не меняют свою форму. Точно так же мы обычно видим движущиеся объекты (или передвигаясь относительно них), при этом идентифицируя каждый конкретный объект как один и тот же. Эту идею о симметрии между геометрией и обыденным визуальным восприятием как раз выразил Гельмгольц еще до Эрлангенской программы[3] и затем Кассирер в отдельной статье[4], напрямую продолжающей проект Гельмгольца по сближению математики и психофизиологии[5].
Отдельный сюжет о прикосновении тел мы встречаем у Лобачевского. Он систематически разрабатывает свой подход к геометрии на основании понятия «тела» и связанных с ним понятий «прикосновения» и «сечения». Это видно уже в его первой доступной нам работе 1823 года — «Геометрии», учебном пособии для слушателей его курсов, составленном из рабочих тетрадей. Уже здесь Лобачевским намечен характерный способ изложения геометрии: он начинает с введения понятия геометрического телаи его единственного свойства — прикосновения, далее вводя понятие расстояния между двумя точками, понятие сферы и окружности, и лишь затем понятия плоскости и прямой линии.
В своей следующей работе 1829 года «О началах геометрии», уже исходящей из эпистемической критики оснований геометрии Евклида, Лобачевский так характеризует прикосновение: «Словами нельзя передать совершенно того, что мы под этим разумеем: понятие приобретено чувствами, преимущественно зрением, и сими-то чувствами мы его постигаем»[6]. Это единственное отличительное свойство геометрических тел, говорит Лобачевский, которое «соединяет два тела в одно». Позже, в «Новых началах геометрии» 1835 года Лобачевский опишет прикосновение как «простое представление, получаемое прямо в природе чувствами, [которое] не происходит из других, а потому не подлежит уже толкованию»[7], то есть, как уже упоминалось, прикосновение здесь играет роль примордиального взаимодействия, являющегося прообразом более сложных геометрических и механических построений. Этот сюжет возникает и у Эйнштейна, который считал себя многим обязанным Гельмгольцу: ощущение касания двух тел указывает на их относительное расположение, и законы этого расположения являются предметом геометрии — мы проецируем свою интуитивную геометрию прикосновений в область физической геометрии.
Если прикосновение является феноменальным источником любых представлений о телесности как таковой, расширяемой за пределы человеческого тела и материальных тел вообще[8], то воображаемая пангеометрия Лобачевского является как бы редукцией к аналитической и тригонометрической реальности тел, элементарным взаимодействием между которыми является прикосновение. В 1835 году в своем ключевом тексте Лобачевский вводит следующий философский нарратив: «в природе мы познаем собственно только движение, без которого чувственные впечатления невозможны. Итак, все прочие понятия, например, геометрические, произведены нашим умом искусственно, будучи взяты в свойствах движения; а потому пространство, само собой, отдельно, для нас не существует. <…> некоторые силы следуют в природе одной, другие своей особой геометрии»[9].
Далее, Лобачевский приводит пример с силой притяжения, находящейся в обратной квадратичной зависимости от радиуса сферы, что верно для геометрии Евклида, и приводит альтернативную гиперболическую формулу площади сферы, отождествляя ее с действием силы притяжения «либо за пределами видимого мира, либо в тесной сфере молекулярных притяжений»[10]. Этот небольшой отрывок показывает, что Лобачевский полагал, будто вычисления, сделанные при помощи его геометрии, пойдут на пользу будущим физическим теориям, предвосхищая наблюдения и опыты, еще не обнаруженные на данном этапе развития науки. Лобачевский не раз возвращается к идее того, что границы мира гораздо шире, нежели видимые наукой, и что его геометрия проникает в ту область, которую науке только предстоит освоить.

Протяженность ощущений
Поскольку геометрическое тело имеет протяжение (от одномерной точки до бесконечномерных пространств), постольку оно может быть предметом суждения. Схожие идеи о протяженности ощущений развивались в немецкой физиологии независимо от интуиции, на которую опирался Лобачевский. К примеру, в одной из своих статей Анри Пуанкаре приводит характерное для того времени различие между геометрическим пространством и пространством представлений (ощущений)[11]. Пуанкаре не указывает точные источники, на которые он опирается, но по работам Эрнста Маха на схожую тему можно судить, что за основу здесь берутся цикл работ физиолога Эрнста Генриха Вебера[12], одного из родоначальников экспериментальной психологии, и работы Йоганнеса Мюллера — учителя Гельмгольца — по физиологии пространственного восприятия.
Мах, как и Пуанкаре, различает физическое, геометрическое и физиологическое пространство; в последнее включены зрительное и тактильное пространства, а у Пуанкаре еще моторное (мышечное[13]) пространство. Для физиков и математиков конца XIX — начала XX вв. было важно зафиксировать те идеальные, абстрактные элементы, отличающие геометрическое пространство от физиологического, поскольку до этого в течение нескольких десятилетий геометрия и физиология развивались под умеренным влиянием общего для обеих дисциплин (и для физики) понятия многообразия, которое ввел Риман под влиянием неокантианца Гербарта. На структурном языке многообразий до сих пор сформулирована львиная доля современной геометрии и топологии. Для простоты будем исходить из определения многообразия как некоторым образом упорядоченного пространства n-ого числа измерений; в этом смысле визуальное и аудиальное пространства рассматриваются Гельмгольцем как трехмерные многообразия, в то время как тактильное пространство осязания рассматривается Махом как двухмерное многообразие, приобретающее третье измерение в кинестезии.
Кожа является агентом тактильного восприятия пространства, и сама по себе представляет сложную замкнутую геометрическую поверхность. Здесь мы различаем интенсивность и локализованность прикосновения, тактильную остроту. Эрнст Вебер показал, что размер предмета по-разному тактильно ощущается различными частями тела, что холодные предметы кажутся нам тяжелее, чем теплые. Кроме того, Вебер заметил важность активности в тактильном опыте, говоря о том, что форма и текстура объекта ощущаются лишь при целенаправленном движении пальца или руки. Затем в 1835 году Йоганнес Мюллер установил закон, ставший ключевым для всей физиологии восприятия XIX века: качество ощущения зависит не от внешних причин и качеств объектов, а от структуры и специфики нервных окончаний, которые подвергаются стимуляции[14]. То есть характер данности ощущений имеет внутреннюю физиологическую причину, а не внешнюю феноменальную. Ощущения являются лишь следами внешних причин, характер которых зависит от поверхности, на которой следы оставлены. При этом соответствие между нашими представлениями и пространственными объектами в восприятии для Мюллера было таким же, как соответствие между уравнением и его графиком в аналитической геометрии.
Эту идею углубляет Гельмгольц, рассматривая мышление как своего рода логико-математическую синоптическую машину, рассчитывающую оптимальное положение и направление своих оптических инструментов — глаз. Для Гельмгольца глаза обладают своей собственной логической агентностью, выступая, как мы уже говорили раньше, носителями системы вывода неявных, бессознательных суждений. Если логические суждения выносит мыслящий разум, то каждый из функционирующих органов чувств «судит» восприятиями различной формы. В этом же смысле каждый орган чувств порождает собственный тип пространства — распространенное среди современников Гельмгольца убеждение в том, что ощущения обладают пространственным характером, затем привлекло интерес геометров и физиков.
Все ощущения «где-то» локализованы, будь то источники звука, предметы, касающиеся кожи или находящиеся в поле зрения. «Гаптическое пространство, или пространство прикосновения, имеет так же мало общего с метрическим пространством, как и визуальное»[15], говорит Мах. И если геометрическое пространство однородно и бесконечно, то свойства пространства ощущений зависят от конкретного типа нервных окончаний. Визуальное пространство, зрение, строго ограничено, об этом, например, свидетельствует вертикальная сплюснутость небесного свода, которую отмечали еще древнегреческие астрономы — нативно мы видим звездное небо как немного искривленную поверхность, лишенную глубины и объема. Примечательно, что усвоение геометрических форм невозможно лишь при помощи осязания: шестигранный куб на ощупь проще идентифицировать, чем условный двадцатигранник, но если человек никогда не видел эти формы, то ему сложнее их воспринять исключительно на ощупь — чем сложнее тактильный объект, тем затруднительнее гаптическая апперцепция, и тем насущнее визуальная перспектива, открывающая внешнюю геометрию тела. Когда мы видим предмет целиком, мы видим его включенным в фоновое пространство, и мы можем математически охарактеризовать это пространство через типы тел, которые его населяют. При осязании мы всегда остаемся лишь в пределах поверхности тела, то есть в пределах внутренней геометрии, поэтому сложнее реконструировать фоновое пространство. Гаптически мы лучше различаем текстуру, а визуально — форму тела.

Экстрасенсорное как позитивное
Не стоит забывать, однако, насколько сильно представители естественной науки того времени были проникнуты оккультизмом, отвечающим их внутреннему стремлению обнаружить мир по ту сторону физических законов, мир невидимых причин необъяснимых феноменов. Ряд ученых второй половины XIX века в Британии и Германии стали участниками бума позитивистских разоблачений и оправданий спиритических практик, который пришелся на 1870-е годы. И если поначалу медиумы были предметом интереса физиков и химиков, то к концу XIX века, когда физическая подоплека спиритизма была дискредитирована, видения медиумов стали ключевыми объектами исследований психологов и психиатров.
Здесь будет зафиксирована лишь одна крайне показательная история о первом немецком астрофизике Иоганне Цёлльнере и его работе «Трансцендентальная физика» 1879 года. Известно, что он был поклонником медиума Генри Слейда, которого привез к себе на родину, в Лейпциг, в 1878 году. Во время сеансов Слейда он фиксировал необычные физические факты в присутствии видных психофизиков того времени — Вильгельма Вебера, Густава Фехнера, Вильгельма Вундта и др., которые (кроме Вундта) подтвердили научность экспериментов Цёлльнера. Сами эксперименты Цёлльнер называл лишь «практическим применением теорий пространства Гаусса и Канта»[16], а их результаты расценивал как свидетельство того, что четвертое измерение (позже физически описанное Эйнштейном) является миром духов. Рассуждения Цёлльнера можно подвести под рубрику трансцендентальной психофизиологии духов — он описывает в каком смысле духи являются телами, которые индуцируют движения других тел в трехмерном пространстве (или перемещают их в четвертое измерение), проводя аналогии с физиологией человеческого тела.
Цёлльнер обращается к трудам Гаусса и Канта, которые, по его мнению, обозначали саму логическую возможность четырехмерного пространства[17]. Четвертое измерение в то время могло быть аналитически описано средствами римановой геометрии, однако не могло быть дано эстетически нашей чувственности — считалось, что это измерение умопостигаемое и экстрасенсорное. Один из экспериментов Цёлльнера был связан с появлением четырех узлов на герметичном шнуре на глазах у ученых-наблюдателей. Он интерпретировал это как проекцию физических взаимодействий, происходящих со шнуром в четвертом измерении. Другой эксперимент зафиксировал исчезновение стола из комнаты, который в течение 6 минут, по мнению ученого, находился в четвертом измерении. Движение объектов в четвертом измерении невидимо для людей, которые априорно, как указывал еще Кант, обладают лишь трехмерной пространственной интуицией. Однако медиумы, согласно Цёлльнеру, обладают экстрасенсорной нерефлективной интуицией, обращенной к четвертому измерению и сокрытому в нем слою феноменов, не доступных прямому наблюдению. Этим объяснялась способность Слейда воздействовать на объекты невидимым для ученых образом. Сам же Слейд, как считал Цёлльнер, действовал бессознательно согласно метафизическим принципам, которые пока невозможно объяснить.

Экстрасенсорное и дух
Здесь мы вплотную подходим к вопросу о стратегиях тематизации экстрасенсорики. XIX век был отмечен открытием ряда невидимых сил и феноменов, вроде радиации, электромагнетизма и тех же неевклидовых геометрий, которые столкнулись с контекстом традиционной немецкой метафизики экспрессивности, связанной с идеей воплощенности (Абсолютного) духа как в природе, так и в человеческом теле. Человеческое тело, считавшееся ранее камертоном духа, с развитием науки в Германии приобрело статус приёмника различных экспериментально установленных сил природы. Однако источник этих сил продолжал оставаться метафизическим; такому взгляду способствовала широкая популярность гегельянства и шеллингианства. С этой точки зрения, мир является не столько нам, сколько самому себе через нас, а ученые лишь расшифровывают сюжетные ходы гетерографии этого мира, тем самым подготавливая их наступление. Книга природы — это книга жалоб и предложений, пусть и написанная на языке математики.
Апология духа стояла за поворотом к неинтенциональной феноменологии во Франции после генетических разработок позднего Эдмунда Гуссерля, отца-основателя феноменологического движения. И эта же апология проблескивает в очерках позднего Мерло-Понти, утверждающего, будто «вещи глядят на меня». Гуссерль вплоть до написания второй книги «Идей» пренебрегает телесностью сознания, возводя очередную модель бестелесной суверенной субъективности. Однако, феноменологическая рефлексия опирается на ту же рекурсию, с которой начинается апология духа — на расщепление и обратную связь между данным и пред-данным, активным и пассивным, конституирующим и конституируемым. Отголоски этого расщепления приобретают различные формы в разных слоях сознательной и дорефлеcивной жизни.
Феноменологически экстрасенсорику можно легко объяснить как способность нарушать барьеры между разными слоями архитектоники сознания, получая доступ к трансцендентному без его предварительной имманентизации. Вопрос о воздействии этой способности на материальный мир не ставится — нас интересует то, что происходит или могло бы происходить в опыте самого экстрасенса. Экстрасенс находится на границе соразмерного и несоразмерного нашим чувствам. Он бросает якорь на берега новой чувственности, становясь первопроходцем на материке неведомых данностей. Экстрасенсорика как паранаучный феномен — это прежде всего эстетическое притязание на преобразование асубъективного в субъективное, на изменение контуров чувственности.
Тело — это орган присутствия. Присутствие для самого тела начинается, как мы уже выяснили, с широко понятого осязания, включающего проприоцепцию и кинестезию. Об этом же говорит Гуссерль в «Идеях II»: «Тело как таковое первоначально может конституироваться только в тактильности и во всем том, что локализовано с ощущениями осязания, как например, тепло, холод, боль и т.п. В дальнейшем, важную роль играют ощущения движения»[18]. Осязание отмечено «двойным постижением» — в нем мы распознаем касаемое и касающееся (пальцы рук, ноги и т.п.). Тело как поле локализации ощущений замечает, где на его поверхности случилось прикосновение. Живое тело, в отличие от вещи, в осязании дано себе как поверхность и как пространство. Мы не можем сказать того же о зрении или слухе — они бестелесны, поскольку глаз не видит себя и ухо не слышит себя в том смысле, в котором тело как таковое осязает себя. Это особое положение осязания делает его гораздо более предпочтительным кандидатом для метафор, тематизирующих познание.
В онтологизированной феноменологии Мерло-Понти, внимательного читателя Гуссерля, осязание является единственным из чувств, в котором нет разделения между воплощенным субъектом и воспринимаемым объектом. Осязающее себя тело суть источник человеческого ощущения принадлежности к миру, отсутствующего при зрительном восприятии, где субъект зачастую играет роль отстраненного наблюдателя, не вовлечённого в картину происходящего:
В тот момент, когда я своей правой рукой чувствую левую руку, я тотчас же перестаю прикасаться левой рукой к правой. Однако же эта неудача последнего момента не отнимает всей истины у пред-чувствия, что я могу коснуться себя, осуществляющего прикосновение. Хотя мое тело и не воспринимает, оно словно бы обрамляет восприятие, которое сквозь это обрамление выходит на свет[19].
С тактильностью присутствия, как показывает феноменологическая психиатрия, связана эстетическая вовлеченность в общий мир, в коллективный опыт собственной и анонимной телесности. Но в физическом плане именно подвижность тела, и прежде всего отмеченная Гельмгольцем подвижность глаз, является предпосылкой конституирования протяженности тела и пространства как среды взаимодействия протяженных тел.
Как нам кажется, утопическое мышление об экстрасенсорике необходимо сегодня в первую очередь как терапевтическая мифологизация природы собственной чувственности. Такое мышление может опираться как на научно-популярные (даже радикально редукционистские), так и на фолк-психологические подходы (например, на теории оздоровления Геннадия Малахова). Предложенные сюжеты призваны не столько обратить внимание, сколько передать стиль той установки, из которой возможно расширенное понимание телесности, дегуманизирующее эстетику. Экстрасенсорное как находящееся за пределами чувств открывается поначалу лишь разуму в концептуальной или аналититческой форме, в попытках предвосхитить решающий момент перехода невидимого в видимое, непомысленного в воображаемое.
Хочется сказать, что экстрасенсорное можно спроектировать, продемонстрировав, как и что еще мы можем чувствовать. Как мы уже видели, и Лобачевский, находивший экстрасенсорное в «молекулярном» и «астрономическом», и Цёлльнер, считавший экстрасенсорное четвертое измерение доступным для медиумов, опирались лишь на веру в авторитет избранных ими научных методов. Методов, примененных по сугубо метафизическим соображениям. Поэтому экстрасенсорное мы склонны считать когнитивным расширением, открывающим сферу синестетического и фантастического в обход собственно сенсорного.

Опираясь на все вышесказанное, мы предлагаем набросок к феноменологии некоторых кинестетических практик.
Кинестетический азарт, вызываемый аттракционами. Эффект аттракциона основан на обмане проприоцептивных ожиданий. Имитация экстремальных ситуаций, например, падения или ускорения, у тел на различных этапах развития вызывает разную реакцию — кинестетические практики, вызывающие азарт у детей, уже привычны и заучены телами взрослых. Опыт пребывания на аттракционе указывает на всю сложность гаптической апперцепции, которая в привычном состоянии тела (хождения, приема пищи или лежания) доведена до автоматизма. Аттракцион как инструмент остранения тела по отношению к миру мы отличаем от остранения тела по отношения к самому себе, которое возникает прежде всего под анестезией (если буквально понимать анестезию как отрицание и полное или частичное отсутствие «эстезиса», в том числе кинестезии, вызываемое как анестетиками, так и поражениями нервной системы). В последнем случае мы теряем осязание, а вместе с ним и возможность осуществлять обыденные заученные механические движения, например, поднесение стакана или ложки ко рту (вспомните хотя бы проблемы с передвижением, когда затекает нога). Если при потере или угасании тактильности расстраиваются движения и способность их сочетать, то на аттракционе затухает предчувствие двигательных возможностей собственного тела, тело цепенеет, поскольку оказывается в ситуации, когда ему необходимо заново учиться двигаться еще не известным ему образом в непривычной ситуации. С похожей ситуацией мы сталкиваемся, учась кататься на велосипеде или плавать. Здесь необходимо зафиксировать эту важнейшую полярность, отличающую анестетический план от экстремального — в первом случае тело не чувствует, во втором случае оно учится чувствовать заново. Оба плана в своих радикальных проявлениях подразумевают невозможность движения.
С другой стороны, аттракцион как способ капитализации непредсказуемости указывает на еще один интересный феномен. Одомашненная экстремальность и непредсказуемость аттракционов является одним из самых ходовых товаров детского дизайна впечатлений, а американские горки — классическим символом кинестетического азарта и дерутинизации обыденной проприоцепции. В этом смысле аттракцион является «ускоренным» способом достижения классического театрального катарсиса (через страх и ужас), в котором его сентиментальное (драматическое) возделывание при помощи психологических механик замещается чисто рефлекторным механическим суррогатом. Ровно таким же образом щекотка является рефлекторным субститутом юмора, дающим на выходе то же самое — смех. Аттракцион суть автоматический (рефлекторно-машинный) удовлетворитель, эксплуатирующий известные кинестетические алгоритмы тела. Различные способы капитализации целой палитры кинестетических удовольствий, будь то аппетита, различных форм согревания (ассоциирующегося с комфортом и уютом), массажа, водных процедур и многого другого, в отличие от аттракционов являются лишь формами заботы о теле. Человека не приводит на аттракцион якобы скрываемая небрежность по отношению к судьбе собственного тела или готовность пожертвовать им ради удовольствия, ведь аттракцион — это инструмент головокружения от столкновения с неизведаннымпри полном сознании безопасности ситуации.
Щекотка. Рефлекторный смех от щекотки обычно противопоставляется сентиментальному смеху, вызываемому юмором. Поскольку рефлекс может быть вызван внешними раздражителями, обращенными непосредственно к нашему телу, все рефлекторное легко превращается в форму пытки. Пытка щекоткой известна со времен Древнего Китая и применялась вплоть до концлагерей Второй Мировой — она представляет собой гиперстимуляцию, ведущую к инверсии функции смеха, который вместо удовольствия выражает панику. В 1897 году психолог Стэнли Холл вводит термины книсмезис (щекотка легкими касаниями, не вызывающая смех, но вызывающая свербение) и гаргалезис (более грубая щекотка, вызывающая смех). Книсмезис могут вызывать листья растений, ползающие по телу насекомые, направленные слабые потоки воды, заживающая царапина или ожог — все, что принуждает нас чесаться. Зуд ярко и отчетливо локализован в качестве местности на поверхности тела, но он не является непосредственным результатом давления — зачастую мы можем не ощущать самого прикосновения (его веса), но ощущаем его эффект — зуд, что в особенности касается слабовосприимчивых к давлению областей. Почесывание отчетливо связано с удовлетворением, в то время как зуд уже менее очевидным образом является фигурой потребности, а значит — нехватки. Какого рода нехватку выражает зуд? Активированные на поверхности тела нейроны вызывают ощущения зуда в качестве триггера для переключения внимания, говоря: «обрати внимание на это место на теле, здесь произошло легкое столкновение неизвестной природы, требующее тактильной экспертизы». Решает ли прикосновение проблему зуда? Не всегда. В то же время зуд как симптом исключает всякое расчесывание и представляет собой самую элементарную игру желания — удержись от расчесывания, сдержи вызванную нейронами тревожную потребность проверить ситуацию. Зачастую мы знаем причину зуда и пути его устранения, но это не устраняет само ощущение зуда, поскольку тело не знает того, что знаем мы. В этом смысле лучшее решение против зуда — это деактивация сообщающих о нем нейронов при помощи анестезии.
Если не важно, кто чешет, и даже лучше, когда чешет кто-то другой, поскольку такие касания могут приносить наслаждение и без зуда, то абсолютно важно кто щекочет. Известная издревле загадка — почему мы не можем сами себя пощекотать — сегодня легко разрешается. Осуществляя движение, тело предугадывает ощущения, которые оно испытает; предугадывая дисперсию прикосновений в определенной области, защитная реакция на нее отключается. Однако это не касается боли — она всегда обращает на себя внимание независимо от актора. Щекотка как пограничный эротико-пыточный феномен включена в сложную сеть перипетий интерсубъективного взаимодействия, от которых зависит ее функция в конкретной практике. Среди многообразия практик важна одна деталь: щекотка же указывает на всю эстетическую инаковость другого — как бы хорошо я тебя ни знал, мое тело не сможет доверять тебе настолько, чтобы не защищаться. Однако расценить это защитное ощущение можно по-разному. Тело, находясь в тепличных условиях, доверяет лишь самому себе — тому, чем оно управляет.
Библиография:
- Гельмгольц Г. О фактах, лежащих в основании геометрии // Норден А.П.(ред.). Об основаниях геометрии. Сборник классических работ по геометрии Лобачевского и развитию ее идей. М.: ГИТТЛ, 1956. С. 366–382.
- Кассирер Э. Познание и действительность. Понятие субстанции и понятие функции. М.: ИТДГК «Гнозис», 2006.
- Лобачевский Н.И. Сочинения по геометрии. Том первый. М.–Л.: Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1946.
- Лобачевский Н.И. Сочинения по геометрии. Том второй. М.–Л.: Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1949.
- Мерло Понти М. Видимое и невидимое / пер. с фр. О. Н. Шпарага. Минск: Логвинов, 2006.
- Husserl E. Ideas Pertaining to a Pure Phenomenology and to a Phenomenological Philosophy: Second Book: Studies in the Phenomenology of Constitution. Dordrecht: Springer, 1989.
- Mach E. Space and Geometry in the Light of Physiological, Psychological and Physical Inquiry. La Salle, Illinois: The Open Court Publishing, 1906.
- Zöllner F. Transcendental Physics. Nabu Press, 2010.