
Впечатление неограниченной, безоговорочно подлинной реальности света. Не вещи как субстанция — теряют и вновь обретают реальность вихри отношений: путешествия, свет, солнце; наружность камней, а не их глубинная вещность. Зерно вещей и не вещей.
//Иоганн Теснериус / О природе магнитных явлений
Возьми вместилище из железа, вроде вогнутых стёкол, снаружи украшенное выгравированными узорами не только ради красоты, но также ради легкости, ибо чем легче сосуд, тем легче его можно привести в движение. Но он не должен быть при этом прозрачным, так чтобы можно было бы видеть заключенную в нем тайну.
//editorial core
Денис Шалагинов
Иван Спицын
Евгений Кучинов
Сергей Кочкуров
//mutual aid sq
Владислав Жигалов, Алексей Конаков, Дмитрий Кралечкин,
Егор Гализдра, Иван Аксёнов, Александр Ветушинский, Иван Напреенко, Майкл Мардер, Хилан Бенсусан, Радек Пшедпельский, Арсений Жиляев, Георгий Федоровский, Мэттью Сегалл, Бен Вудард, Тим Ингольд,
Маяна Насыбуллова, Ярослав Михайлов, Алексей Дорофеев, Кендзи Сиратори, Юк Хуэй, Джесси Коэн, Никита Сазонов, Катя Никитина, Аня Родионова, Коля Смирнов, Антон Крафтский, Никита Архипов, Тим Элмо Фейтен, Аня Горская, Джейкоб Блюменфельд, Саша Скалин, Эдвард Сержан, Кирилл Роженцов, Илья Поляков, Артём Морозов,
Дмитрий Скородумов, Илья Гурьянов и другие.
TG / INST / FB / VK
Знаменитая Бременская лекция Мартина Хайдеггера 1949 года о сущности техники, позднее опубликованная под названием «Вопрос о технике», была хорошо воспринята в философии техники по всему миру. В ней Хайдеггер предположил, что существует разрыв между тем, что древние греки именовали technē, и тем, что Хайдеггер назвал современной техникой (modern technology), поскольку между ними имеется сущностное различие. Сущность technē лежит в poiesis’e, то есть порождении, тогда как современная техника, или постав [Gestell], рассматривает все в качестве состоящего-в-наличии, или ресурса, который должен быть использован. Однако мы должны спросить себя, какое место в анализе Хайдеггера занимают, скажем, древние технологии Индии, Китая, мапуче, инков, майя, науа или жителей Амазонии? Конечно, эти технологии не эквивалентны современной технике, но можно ли их ассимилировать или редуцировать к греческому technē?
В антропологии техники изобретение и использование орудий (зачастую покрываемое терминами «труд» или «праксис») понимается как определяющий процесс, лежащий в основе гоминизации, что убедительно продемонстрировал, например, палеонтолог Андре Леруа-Гуран. Техника была истолкована последним как расширение органов и экстернализация памяти. В этой интерпретации технология антропологически универсальна. Нельзя сказать, что эта интерпретация неправильна, поскольку такие экстернализация и расширение рассматриваются как исходящие из того, что Леруа-Гуран назвал «технической тенденцией», но нам все еще необходимо объяснить то, что он назвал «техническими фактами», которые различаются от региона к региону и от культуры к культуре. Что встроено в технические факты, за вычетом небрежной редукции к культурным различиям, а порой и к контингентности?
Джозеф Нидэм поставил перед историей техники навязчивый вопрос о том, почему модерная наука и техника не были развиты в Китае и Индии, в то же время показав, сколь много научно-технических достижений имело место в Китае до XVI века. Вслед за вопросом Нидэма были проведены значительные исследования, посвященные сравнению технологического развития в различных регионах мира и демонстрирующие, что, например, один конкретный регион является более продвинутым в производстве бумаги или металлургии, нежели другой. Однако это искажение вопроса Нидэма, который в действительности предполагает, что нельзя непосредственно сравнивать китайскую науку и технологию с западной, поскольку они основаны на различных эпистемологиях и философиях. В этом смысле, как можно заново артикулировать эти различия?
Вот некоторые препятствия, которые концепт космотехники пытается преодолеть, поскольку все они предполагают универсальное понятие технологии, которое фактически является остатком желания определенного рода мышления. Вместо того чтобы попросту отвергнуть универсальность технологии, возможно, было бы продуктивнее понять этот вопрос с помощью следующей антиномии:
Тезис: технология есть антропологическая универсалия, понимаемая в качестве экстериоризации памяти и освобождения органов, как это сформулировали некоторые антропологи и философы техники;
Антитезис: технология не является антропологически универсальной; она включена в конкретные космологии и ограничена этими космологиями, выходящими за рамки простой функциональности или полезности. Поэтому нет единой технологии, а есть скорее множественные космотехники.
Этот поиск по сути является проектом деколонизации, который сознательно дистанцируется от постколониализма. Модернизация как глобализация есть процесс синхронизации, который сводит различные исторические эпохи к единой глобальной оси времени и отдает предпочтение специфическим видам знания как главной производительной силе. Этот процесс синхронизации становится возможным благодаря технологии, и как раз так мы понимаем причину, по которой Хайдеггер утверждает в «Конце философии и задаче мышления» (1964), что «конец философии являет себя как триумф управляемой организации научно-технического мира и соразмерного этому миру общественного порядка. Конец философии означает: начало основывающейся в западноевропейском мышлении мировой цивилизации»[3]. Конец философии отмечен кибернетикой, более того, он также предполагает, что в мировой цивилизации и геополитике доминирует западноевропейское мышление. Похоже, для того чтобы уйти от этой синхронизации, нам придется потребовать фрагментации, которая освободит нас от линейно-исторического времени, определяемого как: домодерн — модерн — постмодерн — апокалипсис. Рассмотрение технологии в качестве простой производительной силы и капиталистического механизма увеличения прибавочной стоимости мешает нам увидеть в ней потенциал деколонизации и осознать необходимость развития и поддержания техноразнообразия.
Как неевропейское и немодерное мышление может ответить на нынешнюю технологическую эпоху иначе, нежели призывая вернуться к природе? И как — помимо простого сохранения локальных космотехник в качестве коренных искусств и технологий — такие космотехники могли бы вдохновить нас на переосмысление модерной технологии? Для этого мы должны переоткрыть вопрос о технике и бросить вызов онтологическим и эпистемологическим допущениям, связанным с модерными технологиями, будь то социальные сети или искусственный интеллект. Когда философ Энрике Дуссель предлагает свой трансмодерный проект, он делает акцент на трансверсальных диалогах между различными культурами, дабы создать солидарность, которая включает и уважает перспективу инаковости. Другими словами, неевропейские культуры могут учиться у модерна и в то же время развивать его критику с позиций своих культур. Однако мы все же должны спросить: как возможен такой трансверсальный диалог, когда весь мир синхронизирован и преобразован гигантской технологической силой?
С точки зрения истории философии модерн и постмодерн как европейские дискурсы являются описаниями характерных для них технологических условий и ответами на такие условия: механицизм и кибернетику соответственно. Подозрительно, если человек, стремящийся преодолеть модерн и постмодерн, тематически не имеет дела с технологией. Мне кажется, нам необходимо шагнуть дальше критики евроцентризма и колониальности власти, ведь как истинные материалисты мы должны признать, что эти онтологические и эпистемологические ошибки могут сохраниться и восторжествовать лишь потому, что они реализуются (возможно, мы даже могли бы сказать «жестко кодируются») в технологиях — например, в дизайне баз данных и алгоритмах, определении пользователей и участников. Капитализм эволюционирует, инвестируя в машинное оборудование, и постоянно обновляется в соответствии с техническим продвижением и поиском новых прибылей, создавая новые диспозитивы.
Не вступая в прямую конфронтацию с самим концептом технологии, мы вряд ли сумеем поддержать инаковость и различие. Возможно, это также является условием, при котором мы можем помыслить постъевропейскую философию. Если, как утверждает Хайдеггер, конец философии означает «начало основывающейся в западноевропейском мышлении мировой цивилизации», и такой конец отмечен кибернетикой, то техническое незнание и слепое ускорение лишь ухудшают симптомы, пусть и притворяясь лекарством. Скептическое отношение к прометеанскому импульсу, претендующему на то, чтобы покончить с капитализмом посредством полной автоматизации, вполне оправдано, ведь он основан на ложной персонификации капитализма в качестве пожилого человека, который полностью устареет благодаря технологии. Однако мы не просто отвергаем идею акселерации, скорее имеет смысл спросить: что может быть быстрее, чем радикальный поворот, отклонение от глобальной оси времени и освобождение нашего воображения технологических будущих от трансгуманистических фантазий? Это переоткрытие мировой истории может быть достигнуто лишь путем придания гигантской технологической силе контингентности и превращения ее в необходимый предмет исследования и трансформации с позиций множественных космотехник.
* * *
Здесь можно спросить, достаточно ли проведенного Леруа-Гураном анализа технических фактов для объяснения различных техничностей. Действительно, в своей работе Леруа-Гуран блестяще описал технические тенденции и диверсификацию технических фактов, документируя различные линии технической эволюции и влияния среды на изготовление инструментов и продуктов. И всё же у исследования Леруа-Гурана есть предел (даже несмотря на то, что в этом также заключаются сила и уникальность его работы), который, похоже, проистекает из его сосредоточенности на индивидуализации технических объектов, так чтобы выстроить применимые к различным культурам технические генеалогию и иерархию. В этой перспективе понятно, почему он намеренно ограничился объяснением технического генезиса, основанным на изучении развития орудий: как он сетовал в постскриптуме к L’homme et la matiere, написанном спустя тридцать лет после изначальной публикации, большинство классических этнографий посвящают свои первые главы технике лишь для того, чтобы потом немедля обратиться к социальным и религиозным аспектам, которым эти этнографии в основном и посвящены[4]. В работе Леруа-Гурана техника становится автономной в том смысле, что она действует как «линза», через которую можно восстановить эволюцию человека, цивилизации и культуры. Однако сложно объяснить сингулярность технических фактов, отталкиваясь лишь от «среды», и я не верю, что можно избежать вопроса о космологии и, следовательно, о космотехнике.
Позвольте мне поставить свой вопрос в форме кантовской антиномии:
(1) техника антропологически универсальна, и поскольку она состоит в расширении соматических функций и экстернализации памяти, производимые в разных культурах различия можно объяснить согласно степени, в которой фактические обстоятельства отклоняют (inflect) техническую тенденцию[5];
(2) техника не является антропологически универсальной; технологии различных культур подвержены воздействию свойственных этим культурам космологических представлений и обладают автономией только в пределах некоторой космологической установки — техника всегда есть космотехника. Поиск разрешения этой антиномии будет ариадниной нитью нашего изыскания.
Здесь я дам предварительное определение космотехники: она обозначает слияние космического и морального порядка в технической деятельности (хотя сам термин космический порядок тавтологичен, поскольку греческое слово kosmos означает порядок). Понятие космотехники непосредственно обеспечивает нас концептуальным инструментом, с помощью которого можно преодолеть конвенциональное противопоставление техники и природы и понять задачу философии как поиск и утверждение их органического единства. В оставшейся части [текста] я разберу этот концепт, отталкиваясь от работ философа XX века Жильбера Симондона и некоторых современных антропологов, в частности Тима Ингольда.
В третьей части своей диссертации «О способе существования технических объектов» (1958) Симондон излагает спекулятивную историю техничности, утверждая, что недостаточно просто исследовать техническую родословную объектов; необходимо также понять, что она предполагает «органический характер мысли и способа бытия в мире»[6]. По Симондону, генезис техничности начинается с «магической» фазы, где мы находим исходное единство, предшествующее разделению субъекта/объекта. Эта фаза характеризуется отделением и сцеплением между фоном и фигурой. Симондон взял эти термины из гештальтпсихологии, где фигура не может быть отделена от фона, причем именно фон придает форму, тогда как форма также накладывает ограничения на фон. Мы могли бы помыслить техничность магической фазы как поле сил, ретикулированное[7] в соответствии с тем, что Симондон называет «ключевыми точками» (points cléfs), например высокими местами, такими как горы, гигантские скалы или старые деревья. Первобытный магический момент, исходный режим космотехники, разветвляется (bifurcated) на технику и религию, где последняя сохраняет равновесие с первой в непрерывном стремлении достичь единства. В технике и религии выделяются как теоретическая, так и практическая части: в религии таковые известны как этика (теоретическая) и догма (практическая); в технике — наука и технология. Магическая фаза — это режим, в котором едва ли есть какое-либо различие между космологией и космотехникой, поскольку космология имеет смысл лишь тогда, когда составляет часть повседневной практики. Разделение происходит только в период модерна, так как изучение технологии и исследование космологии (как астрономии) рассматриваются как две разные дисциплины — что указывает на полное отделение техники от космологии и исчезновение всякой открытой концепции космотехники. И всё же было бы неверно говорить, что в наше время нет никакой космотехники. Она определенно есть: это как раз то, что Филипп Дескола называет «натурализмом», имея в виду антитезу между культурой и природой, которая восторжествовала на Западе в XVII веке[8]. В этой космотехнике космос рассматривается в качестве эксплуатируемого состоящего-в-наличии, в соответствии с тем, что Хайдеггер называет картиной мира (Weltbild). Здесь мы должны констатировать, что, по Симондону, остается некоторая возможность переизобрести космотехнику (хотя он и не использует этот термин) в наше время. В интервью о механологии Симондон рассказывает о телевизионной антенне, превосходно описывая, как должна выглядеть эта конвергенция (современной технологии и естественной географии). Хотя, насколько мне известно, Симондон больше не касался этой темы, наша задача — развить то, что он хотел сказать:
Взгляните на эту телеантенну… Она жесткая, но ориентированная; мы видим, что она смотрит вдаль и может принимать [сигналы] от передатчика, расположенного вдалеке. С моей точки зрения, это больше, чем символ; кажется, этим представлен своего рода жест, почти магическая сила интенциональности, современная форма магии. В этой встрече между высочайшим местом и узловой точкой, представляющей собой точку передачи высокочастотных волн, возникает своего рода «соприродность» человеческой сети и естественной географии местности. У этого есть поэтическое измерение, а также измерение, имеющее отношение к смыслу и к встрече разных смыслов
В некоторых недавних работах было высказано предположение, что пристальное рассмотрение незападных культур — коль скоро последнее демонстрирует плюрализм онтологий и космологий — указывает на выход из затруднения модерна. Антропологи вроде Филиппа Дескола и Эдуарду Вивейруша де Кастру обращаются к амазонским культурам, дабы деконструировать разделение природы/культуры в Европе. Схожим образом такие философы, как Франсуа Жюльен и Огюстен Берк, пытаются сопоставить европейскую культуру с китайской и японской, чтобы описать глубинный плюрализм, который нельзя легко классифицировать исходя из простых схем, и переосмыслить западные попытки преодоления модерна. В своей основополагающей работе «По ту сторону природы и культуры» Дескола не просто предполагает, что развившееся на Западе разделение природы/культуры не является универсальным, но и утверждает, что этот случай маргинален. Дескола описывает четыре онтологии, а именно: натурализм (разделение природы/культуры), анимизм, тотемизм и аналогизм. Природа вписана в каждую из этих онтологий по-разному, и таким образом обнаруживается, что разделению природы/культуры, которое считалось само собой разумеющимся начиная с европейского модерна, нет места в немодерных практиках[12]. Дескола приводит наблюдение социального антрополога Тима Ингольда о том, что философы редко задавались вопросом: «Что делает человека совершенно особенным животным?», предпочитая ему вопрос, типичный для натурализма: «Каково родовое отличие между человеком и животными?»[13]. Как отмечает Дескола, это касается не только философов, поскольку этнологи также впадают в догму натурализма, который отстаивает человеческую уникальность и допущение, что люди отличаются от других существ посредством культуры[14]. В натурализме обнаруживается прерывность внутренних миров (interiority) и непрерывность физических свойств (physicality); в анимизме — непрерывность внутренних миров и прерывность физических свойств[15]. Ниже воспроизводятся предложенные Дескола определения четырех онтологий:
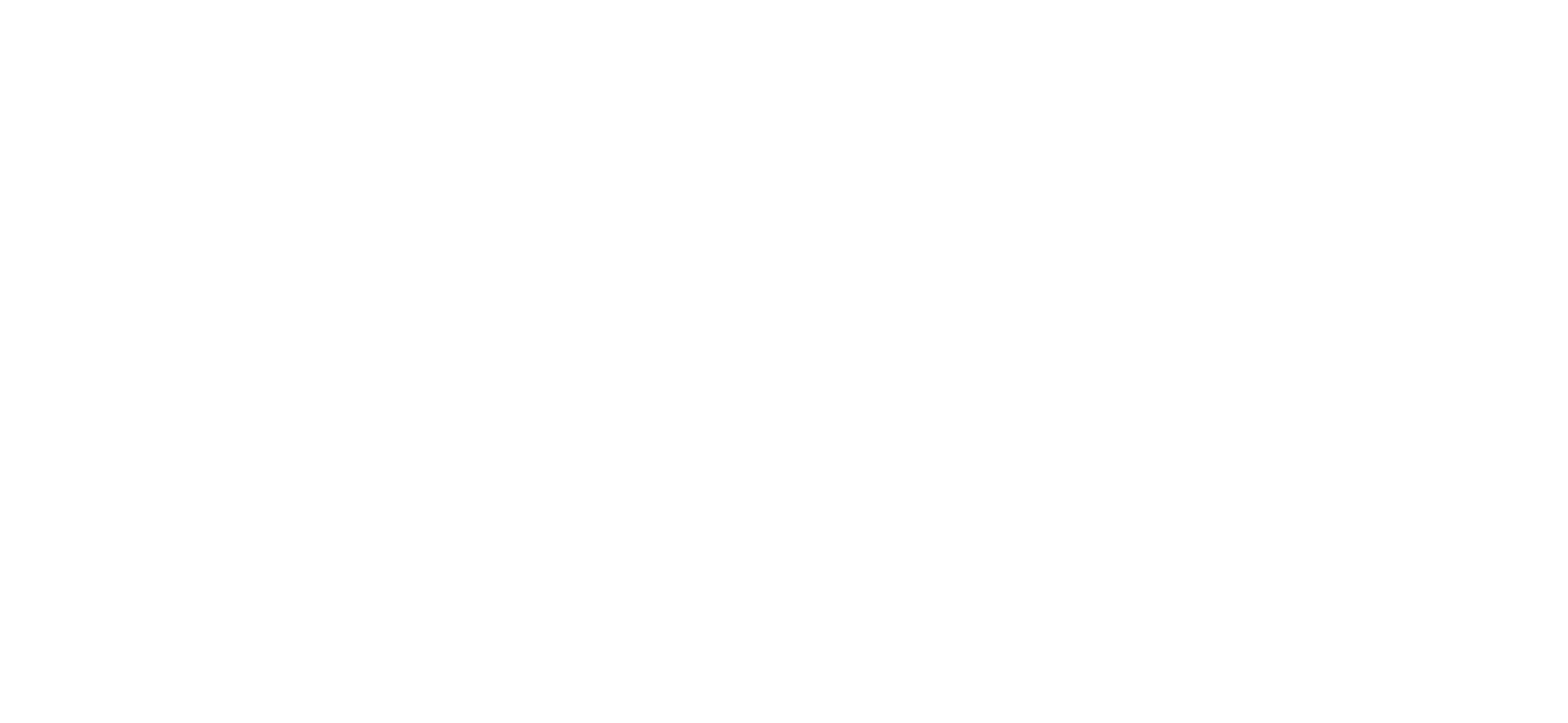
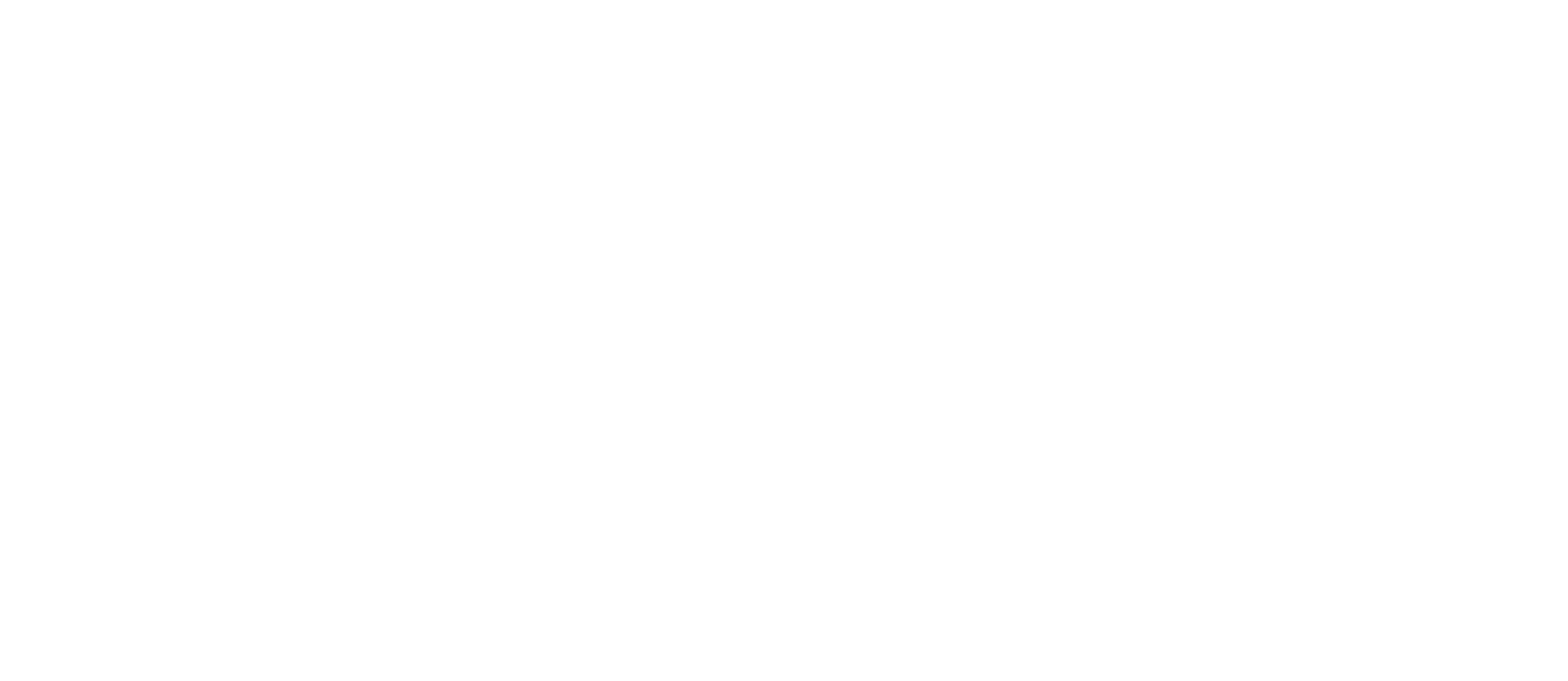
Пусть и не используя термин, аналогичный «космотехнике», Ингольд ясно осознает этот момент. Опираясь на Грегори Бейтсона, он предполагает, что существует единство между практиками и средой, к которой они принадлежат. Это подводит его к тезису о чувствующей экологии (sentient ecology)[16], опосредованной и управляемой в согласии с аффективными отношениями между человеческими существами и их средами. Пример, приводимый им касательно общества охотников-собирателей, помогает прояснить, что он подразумевает под «чувствующей экологией»: восприятие среды охотниками-собирателями, говорит он, вложено в их практики[17]. Ингольд указывает, что у народа кри с северо-востока Канады есть объяснение того, почему оленей легко убить: животные сами предлагают себя охотнику «в знак доброй воли или даже любви к нему»[18]. Встреча животного с охотником — это не просто вопрос о том, «пристрелить или не пристрелить», но скорее вопрос космологической и моральной необходимости:
В решающий момент зрительного контакта охотник чувствует, как им овладевает присутствие животного; он чувствует себя так, будто его бытие некоторым образом связано или переплетено с бытием животного — это чувство, равносильное любви, чувство, которое в сфере человеческих отношений может быть испытано во время полового акта
Симондон придерживается аналогичного взгляда на отношение между человеком и внешним миром как связь между фигурой и фоном — это функционирующая модель космотехники, поскольку фон ограничен фигурой, а фигура получает силу от фона. Вследствие их разъединения в религии фон больше не ограничен фигурой, и поэтому неограниченный фон воспринимается в качестве богоподобной силы; тогда как в технике, наоборот, фигура захватывает фон, что ведет к подрыву их отношения. Исходя из этого, Симондон ставит перед философским мышлением задачу: произвести конвергенцию, переутверждающую единство фигуры и фона[20] — нечто такое, что можно было бы понять как поиск космотехники. Например, рассматривая полинезийскую навигацию — способность перемещаться между тысячами островов без какого-либо современного оборудования — в качестве космотехники, мы могли бы сосредоточиться не на самой этой способности как навыке, а скорее на соотношении фигуры-фона, предвосхищающем этот навык.
Сравнение работ Ингольда и других этнологов с работами Симондона указывает на два различных способа подступиться к вопросу о технике в Китае. В первом случае у нас есть путь к постижению космологии, которая обусловливает социальную и политическую жизнь; тогда как во втором философская мысль перенастраивается на поиск фона фигуры, связь которых кажется всё более и более ослабленной (distanced) из-за растущей специализации и профессионального разделения в обществах модерна. Космотехника Древнего Китая и философская мысль, развивавшаяся на протяжении его истории, на мой взгляд, отражают постоянное усилие добиться именно такого объединения фона и фигуры.
В китайской космологии обнаруживается чувство, которое отличается от зрения, слуха и осязания. Оно называется ганьин (感应, Ganying), что буквально означает «чувство» и «ответ», и зачастую (как в работах синологов вроде Марселя Гране и Ангуса Грэма) понимается как «коррелятивное мышление»[21]; вслед за Джозефом Нидэмом я предпочитаю именовать его резонансом. Он порождает «моральное чувство» и далее — «моральное обязательство» (в общественном и политическом смысле), которое не является всего лишь продуктом субъективного созерцания, а скорее возникает из резонанса между Небом и человеком, так как Небо выступает основанием морали[22]. Существование такого резонанса покоится на предпосылке слияния человека и Неба (天人合一), и поэтому ганьин предполагает (1) однородность всех существ и (2) органичность отношения между частью и частью, а также между частью и целым[23]. Эту однородность можно найти уже в Чжоу и—Ши Цзи II[24], где древний Бао-ши (другое имя Фу-си) создал восемь триграмм, дабы отразить в этих однородностях связь всего сущего:
В древности, когда Бао-ши пришел к власти надо всей поднебесной, глядя вверх, созерцал он сверкающие формы, явленные в небе, глядя же вниз — обозревал узоры (patterns), явленные на земле. Он созерцал орнаментальные образы (appearances) птиц и зверей и (различные) качества (suitabilities) почвы. В подручной близи, в самом себе, находил он вещи для рассмотрения, и то же — в отдалении, в вещах вообще. Из этого он измыслил восемь триграмм, дабы всецело явить атрибуты духоподобных и разумных (операций, осуществляемых втайне) и классифицировать свойства мириад вещей
<…> Я полагаю, что концепция космотехники позволяет проследить различные техничности и способствует раскрытию плюральности отношений между техникой, мифологией и космологией — и тем самым охвату различных отношений между человеком и техникой, унаследованных от различных мифологий и космологий. Безусловно, прометеанизм — одно из таких отношений, но весьма проблематично считать его универсальным. Однако я, разумеется, не собираюсь отстаивать здесь никакую культурную чистоту или защищать ее, как некий исток, от загрязнения. Техника служила средством коммуникации между различными этническими группами, что автоматически ставит под вопрос любой концепт абсолютного истока. В нашу технологическую эпоху она является движущей силой глобализации — в том смысле, что она одновременно конвергирует пространство и синхронизирует время. И всё же необходимо утверждать радикальную инаковость, чтобы оставить место для гетерогенности и тем самым развить различные эпистемы, основанные на традиционных метафизических категориях, — вот задача, которая откроет путь к истинному вопросу о локальности. Я использую термин «эпистема» с отсылкой к Мишелю Фуко, для которого он обозначает социальную и научную структуру, функционирующую как набор критериев отбора и определяющую дискурс истины[27]. В «Словах и вещах» Фуко вводит периодизацию трех западных эпистем: ренессансной, классической и модерной. Позднее Фуко обнаружил, что термин «эпистема» завел его в тупик, и разработал более общий концепт, а именно концепт диспозитива[28]. Переход от эпистемы к диспозитиву — это стратегический шаг к более имманентной критике, которую Фуко смог применить в более современном анализе; оглядываясь назад в интервью 1977 года, примерно во время публикации «Истории сексуальности», Фуко предложил определить эпистему в качестве формы диспозитива: как тот «стратегический диспозитив, который позволяет отобрать среди всех возможных высказываний те, что смогут оказаться принятыми внутрь <…> некоторого поля научности, и о которых можно было бы сказать: вот это высказывание истинно, а это — ложно»[29]. Я беру на себя смелость переформулировать здесь концепт эпистемы: для меня это диспозитив, который в контексте современной техники можно переизобрести на основе традиционных метафизических категорий, дабы повторно ввести форму жизни и реактивировать локальность. Такие переизобретения можно наблюдать, например, прослеживая социальные, политические и экономические кризисы, которые в каждую эпоху наступали в Китае (несомненно, мы можем найти примеры и в других культурах): упадок династии Чжоу (1122-256 гг. до н.э.), введение буддизма в Китае, поражение страны в Опиумных войнах и т.д. В этих точках мы наблюдаем переизобретение эпистемы, которая, в свою очередь, обусловливает эстетическую, социальную и политическую жизнь. Технические системы, которые сегодня формируются, подпитываясь цифровыми технологиями (например, «умные города», «интернет вещей», социальные сети и крупномасштабные системы автоматизации), как правило, ведут к гомогенным отношениям между человечеством и техникой — к интенсивной квантификации и контролю. Но это лишь увеличивает важность и актуальность для разных культур размышления о своих собственных онтологиях и истории, с тем чтобы принять цифровые технологии, не будучи попросту синхронизированными в гомогенную «глобальную» и «обобщенную» эпистему.
Решающий момент модерной китайской истории наступил в середине XIX века, когда в ходе двух Опиумных войн династия Цин (1644-1912) была полностью разгромлена британской армией, что привело к открытию Китая в качестве квазиколонии для западных сил и спровоцировало его модернизацию. Китайцы считали одной из главных причин этого поражения нехватку технологической компетентности. Поэтому они остро ощущали необходимость быстрой модернизации посредством технологического развития, надеясь положить конец неравенству между Китаем и западными силами. Однако Китай не сумел абсорбировать западные технологии так, как того желали доминировавшие в то время китайские реформисты, во многом из-за невежества и непонимания технологии. Ведь они [реформисты] придерживались убеждения, — которое ретроспективно кажется скорее «картезианским», — будто можно отделить китайскую мысль — разум — от технологий, понимаемых просто как инструменты; что первая, фон, может остаться невредимой, не затронутой импортом и внедрением технологической фигуры.
Технология, напротив, в конечном счете подорвала всякий дуализм такого рода и конституировала себя в качестве фона, а не фигуры. Со времени Опиумных войн прошло более полутора столетий. Китай пережил новые катастрофы и кризисы, вызванные сменой режимов и всевозможными экспериментальными реформами. За это время было немало размышлений по вопросу о технологии и модернизации, а попытка сохранить дуализм мыслящего разума и технологического инструмента провалилась. Более того, в последние десятилетия любые рефлексии такого толка оказались бессильными перед лицом продолжающегося экономического и технологического бума. На смену приходят своего рода экстаз и ажиотаж, толкающие страну в неизвестность: внезапно она оказывается как бы посреди океана, неспособная увидеть ни предела, ни цели — затруднение, описанное Ницше в «Веселой науке» и остающееся пронзительным образом, который схватывает тревожное положение человека модерна[30]. Дабы обозначить некий воображаемый исход из этой ситуации, в Европе изобрели различные концепты, такие как «постмодерн» или «постчеловек»; но нельзя найти выход, не обратившись непосредственно к вопросу о технике и не столкнувшись с ним лицом к лицу.
<…>
Sound perfomance: Маяна Насыбуллова, hypo co.lab

