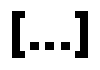Рог изобилия
Майкл Мардер
Каким бы ни был контекст, изобилие в основе своей ассоциируется у нас с разнообразными аспектами царства растений. Почему? Возможно, вследствие бессознательных образов, возвращающих нас к тем временам, когда мы жили среди растительности, а не в бетонных джунглях, по которым большинство из нас скитается сегодня. Дерево в цвету, плодородная земля, приносящая обильный урожай, корзина, полная фруктов или свежесобранных цветов: в разные времена года все это символизирует кажущиеся неисчерпаемыми щедрые дары, которые мы принимаем от мира по ту сторону нашей способности воспринимать. Дарение блага, эфемерно отражающееся в праздновании Благодарения (как, впрочем, и любого другого праздника, принимающего за основу сбор урожая), суть робкая, невозможная попытка вернуть долг, который мы взяли у растений — еще до того, как такое «мы» получило шанс эволюционировать в Homo sapiens — долг питания, вдыхаемого воздуха и пригодного для жизни климата.

Среди мифических символов избытка выделяется корнукопия, называемая также «рогом изобилия» или «рогом Амалфеи». По общему признанию, Амалфея была не растением, а животным, точнее козой, вскармливавшей младенца-Зевса, пока тот скрывался от своего кровожадного отца Кроноса. Именно ее рог при загадочных обстоятельствах отделился от ее тела и по благословению бога стал изобильным. Таким образом, корнукопия представляет собой полую животную форму, набитую переполняющим ее растительным содержанием. Неконтролируемый и неудерживаемый в жестких пределах почти неорганического сосуда, прибыток корнукопии дает нам в итоге чистую пролиферацию, бесконечность конечной жизни, которая живет поверх и по ту сторону самой себя (которая воспроизводит саму себя), не прибегая в то же время к трансцендентным махинациям. Наше отношение к природной среде руководствуется нашей непоколебимой верой в ее корнукопию. Дары растительной жизни превращаются в их постоянную немую данность. Мы действуем так, будто наши жатвы, сборы, вырубки, валки и корчевания растений не истощают бесконечный склад, которым стал мир. Засухи, неурожаи и другие разновидности оскудения — всего лишь локальные отклонения, временные нарушения в корнукопии неустанно трудящейся природы, спинозовской natura naturans («природы порождающей»). Даже когда все сгорает дотла и обращается в золу, первые же семена готовы дать ростки. При виде этого, как и при созерцании циклов упрямого перерождения наперекор насилию, развязанному нами против жизни на планете, мысль о массовом вымирании отходит у нас на задний план. Категория «возобновляемой энергии» подразумевает обильные урожаи, выращиваемые исключительно для того, чтобы быть испепеленными как «биомасса», из которой будет дистиллирован этанол. Теперь рог Амалфеи — это факел, переданный Фениксу.
В западной традиции физический избыток является типичным симптомом метафизической нехватки. Аргумент «обратной стороны медали», согласно которому материальный достаток скрывает духовную скудость, предлагает философии удобный метод приручения и одомашнивания изобилия. Для Платона множество вещей остается хаотичным и дезорганизованным, пока мы не проследим их изначальное единство в одной идее. Спиноза считает многочисленные феномены отвлечением от единой субстанции, которая охватывает все. В условиях конца метафизики Гегель усматривает в многочисленных данных чувственного опыта наиболее абстрактную и неполную стадию начала пути Духа. Корнукопия — враг философии, которая интуитивно видит в анархической жизни растений, лишенных подлежащего единства, яркий пример отвратительного эмпирического богатства. Если «само» растение суть воплощенные (и осуществленные) идеи, субстанции, духи, интеллекты и пролиферации, упорно сопротивляющиеся Единому, значит «само» растение не существует. Флора предоставляет нам источник подходящих образов материального изобилия, так как растительность утопает в том, что мы могли бы назвать онтологической корнукопией, подразумевая, что за ее становлением нет Бытия, нет единого ядра, центра или общего знаменателя произрастающих множественностей.

Говоря психоаналитически, метафизическая философия создает кастрированный образ растительного существования (замещение существования в целом) как проекцию собственной кастрационной тревоги. То, что метафизика говорит о растениях, разоблачает нечто важное в ее собственной структуре: нехватка, которая ею предполагается в растительном мире, есть отсутствующий фаллос самой метафизики, недохват всемогущего единства, которым она одержима. Вместо того чтобы распознать разрыв в себе, такая мысль переносит его на другого, который затем может быть обесценен и презираем за провал, являющийся внутренним для самого обесценивающего. Ибо как нет «самого» растения, так и «самого» Единого не существует: такое прозрение, наносит серьезный удар по метафизической мысли.
Хорошо, но что насчет нашей экономики и ее последствий? Разве мы не устали от идеологии роста и от того, что наш мир в итоге переполнился промышленными товарами? Планета утопает в грудах хлама: пластиковые упаковки, пенопласт, неразлагающиеся батареи, гаджеты, бытовая техника, тряпье, мебель и так далее — все это мгновенно устаревает, удовлетворяя спрос на постоянный рост… Это тоже корнукопия? Так мы имитируем растительное изобилие?

Несмотря на всевозможные параллели между ошеломляющими количествами плодов человеческого труда и действительными плодами, ответ на поставленные вопросы отрицательный. Продукты роста растений, разлагаясь, обогащают почву, тогда как продукты нашей промышленности чаще всего являются не поддающимися биологическому разложению загрязнителями окружающей среды, не питающими ничего, кроме увеличивающегося капитала. Это, в сущности, и есть то бесспорное единство, которое стоит за окружающими и удушающими нас товарами: неумолимый закон прибавочной стоимости. Что еще важнее, форма стоимости совершенно безразлична к содержанию того, что произрастает на ядовитом древе капитализма: бомбы или дизайнерские солнцезащитные очки, айфоны или пестициды. Растительная корнукопия, со своей стороны, гиломорфична, а это значит, что материя растений тесно связана с их формами (и равноизначальна им). И это единственный приемлемый тип изобилия, который не является результатом ни размножения «вещества» за счет «духа», ни углубления последнего в ущерб первому.
Тем не менее в роге изобилия есть то, что сбивает с толку. Его знаковые изображения, такие как «Абунданция» Питера Пауля Рубенса (около 1630 года), демонстрируют переплетение животной формы и растительной материи, где плоды вытрясаются из жесткой формы рога. Неспособные постичь растительное изобилие как таковое, мы ищем животного посредничества в надежде, что оно ограничит растительный дар. Пустой негибкий рог дает ему форму, даже если, как я уже сказал, он не может вмещать в себя растительное дарение. Позвольте мне попытаться прямо указать на то, что вызывает здесь наибольшее беспокойство: отношение между частью мифической козы и излиянием изобилия столь же индифферентно, сколь и отношение между абстракцией меновой стоимости и конкретными потребительными стоимостями товаров, произведенных в капиталистическом режиме экономики. Лишенное притязания на форму, которая существует как само-данность (у нас нет термина лучше), содержимое рога изобилия превращается в биомассу и сковывается в кошмаре жизни, которая ему не принадлежит. Но ненадолго. Плоды вываливаются; их излишек, не умещающийся в чуждой для них рамке, наделяет корнукопию значением.
В картине Рубенса заключительный момент — назначение или предназначение корнукопии — это не высвобождение плодов из рога, но путти, которые собирают их, ловя в воздухе и поднимая с земли. Растительное движение застывает в животном каркасе, который его удерживает, и в квази-людях, которые его ловят. Рубенс не дает плодам упасть. Он доставляет их в сжимающую руку или на землю. Корнукопия, верная растительному миру, напротив, превозносит интервал свободного падения, то промежуточное, что не совпадает с наложенными на него конкурирующими рамками. Только таким может быть наш запасной вариант в отсутствие растительного гиломорфизма.
Перевод с английского Евгения Кучинова