
Впечатление неограниченной, безоговорочно подлинной реальности света. Не вещи как субстанция — теряют и вновь обретают реальность вихри отношений: путешествия, свет, солнце; наружность камней, а не их глубинная вещность. Зерно вещей и не вещей.
//Иоганн Теснериус / О природе магнитных явлений
Возьми вместилище из железа, вроде вогнутых стёкол, снаружи украшенное выгравированными узорами не только ради красоты, но также ради легкости, ибо чем легче сосуд, тем легче его можно привести в движение. Но он не должен быть при этом прозрачным, так чтобы можно было бы видеть заключенную в нем тайну.
//editorial core
Денис Шалагинов
Иван Спицын
Евгений Кучинов
Сергей Кочкуров
//mutual aid sq
Владислав Жигалов, Алексей Конаков, Дмитрий Кралечкин,
Егор Гализдра, Иван Аксёнов, Александр Ветушинский, Иван Напреенко, Майкл Мардер, Хилан Бенсусан, Радек Пшедпельский, Арсений Жиляев, Георгий Федоровский, Мэттью Сегалл, Бен Вудард, Тим Ингольд,
Маяна Насыбуллова, Ярослав Михайлов, Алексей Дорофеев, Кендзи Сиратори, Юк Хуэй, Джесси Коэн, Никита Сазонов, Катя Никитина, Аня Родионова, Коля Смирнов, Антон Крафтский, Никита Архипов, Тим Элмо Фейтен, Аня Горская, Джейкоб Блюменфельд, Саша Скалин, Эдвард Сержан, Кирилл Роженцов, Илья Поляков, Артём Морозов,
Дмитрий Скородумов, Илья Гурьянов и другие.
TG / INST / FB / VK
Оживление бубна
Эту культуру нельзя назвать древней, ибо никакой радиоуглеродный анализ не позволит обнаружить следы темпоральности, не знающей нашего разделения на древних и новых. В этой культуре инструменты не создавались — с ними договаривались, их приручали, уживаясь с присущей им строптивостью[2]. Иструменты (никогда) не переставали быть дикими, и никакое «объезживание» не делало их частью дома или семьи, где они лишились бы собственной воли, собственных способностей, отличающихся от целей домочадцев. Они никем не создавались, но всегда присутствовали. Почему же мы их не видели? Это вопрос перспективы, позиции по отношению к конкретному инструменту. Видимые для одних и скрытые различием между природами для других, они производят эффекты не «отсылающие к способностям, непосредственно свойственным телу»[3], то есть к способностям «видоизменять, использовать, потреблять или разрушать»[4], но становящиеся выражением внутреннего во внешнем, где внешнее является таковым лишь настолько, насколько само оно оказывается не-внутренним для перспективы, в которой этот эффект наблюдается[5].
Эти инструменты были настолько же дикими, насколько, как нам представляется, могут быть дикими животные. Ни одно домашнее животное не одомашнивается за одну свою жизнь: необходимо замкнуть и поколение за поколением удерживать животное в загоне (не о подобной ли «эволюции» технических объектов говорит Симондон?), лишать конечной цели в той мере, в какой она отлична от целей хозяина питомника. Ни одно животное-комменсал, воспринимающее человеческое жилище всего лишь как изобильную часть леса, не привязывается к нему настолько, чтобы считать его своим домом: государственность дома[6] не выделяется в качестве фигуры на фоне среды обитания. В конце концов, эти инструменты и были дикими животными — с тем лишь отличием, что их дикость ни для кого не являлась предметом исключения, отчуждения или противопоставления, никто не претендовал и не указывал орудиям на их место (работы).
Объезживание, укрощение и одомашнивание не сообщает ничего о той реальности, где вопрос взаимодействия с инструментом подразумевает предварительную, но также непрерывную коммуникацию с ним: грубая сила, завоевание инструмента, его обуздание не приводят к действенному союзу, крепкому настолько, что на него можно было бы положиться в любой момент — с уверенностью в невозможности предательства или бунта. Общий язык может не быть найден, нуждающемуся и просящему может быть в принципе отказано в помощи. Производство эффекта таким инструментом не означает ни универсальности последнего, ни его абстрактной функциональности. Договариваться нужно всякий раз: «никто не видел техники»[7], с которой не нужно было бы договариваться. Никто не видел, чтобы эффект производился этими инструментами без их спроса и согласия (неизвестно также, можно ли его подсмотреть). Этот эффект невозможно извлечь в качестве безликой функциональности и перенести с объекта на объект (без «секреции» новой души со своими наклонностями и способностями), не уничтожив тем самым способность конкретного инструмента функционировать. Коммуникации с инструментом не избежать. Эти инструменты (и производимые ими эффекты) не необходимы, они ничего не слышали о вине вещей[8].
Но что же представляет собой эпоха, отделённая катастрофой как невидимой плёнкой[9] от нас и наших способностей взаимодействовать с инструментами? Действительно ли имеет место некое «до», предшествующее разделению отношений коммуникации и (объективных) способностей? Действительно ли имело место разделение, подразумевающее изначальное тождество? Эти вопросы просматриваются из каждой технической таксономии: что представляет собой магическая фаза и ретикуляция до разделения на технику и религию, чем является техническая тенденция, предшествующая техническому факту? Что означает это заглядывание в дотехническое прошлое из ситуации, где это «до» невозможно установить, не обладая техникой (и технологией)? Техникой, которая и позволяет этому «до» случиться и заговорить на языке, понятном в круге нашей техники. Мы могли бы предположить, что это «до» присутствует в каждый момент времени как условие и возможность существования техники, но именно техника производит своё собственное доиндивидуальное: оно появляется вместе с техникой, вместе с инструментами, которые уже существуют в любом возможном (и невозможном) модусе. Техника не упаковывается в таксономию, неминуемо предполагающую момент времени, когда технический объект существовал бы до своего существования, но предполагает техническую таксо-аномию: невозможность установить технический исток, в котором не-техники не существовало бы.
Детали катастрофы нам неизвестны, но мы знакомы с её свидетелями. Артефакты, которые попали к нам в руки в качестве не пойми как использовавшихся аппаратов, ничем не отличаются от знакомых нам ординарных инструментов. Они и есть эти самые инструменты, строптивая сущность которых излучается подобно радиационному фону. Техника всегда остается дикой, мы так или иначе вынуждены договариваться с ней, даже когда вдруг решили, что катастрофа осталась позади.
«Рыба поплыла» означает одновременно и саму рыбу и то, в чём плывущая рыба от(и вы)ражается. Здесь уместно вспомнить концепт отражения у Александра Богданова и его пример с градусником: градусник отражает температуру, становится ей, но сообразно собственному устройству. Погода становится рыбой, но также только так, как погода может выразить рыбу. Если животное выражает климат, то условия наличности и явленности природы не могут быть общим местом для всего, они создаются изнутри природы её обитателями. Если корреляция между рыбой и температурой воздуха есть, а каждый обитатель мира видит рыбу по-своему, то каждая отдельная природа зависит от того, какой агент является в этой природе производителем климата.

Так, герои «Калевалы», чтобы совладать с той или иной задачей, будь то варка пива, постройка лодки, излечение раны или победа над болезнью, всегда увлечённо ищут начало интересующей их вещи (например, железа, вонзившегося в ногу человека, или дерева, которое должно пойти на возведение бортов судна). Соответствующий поиск неизменно оборачивается рассказыванием-пропеванием фантастической, абсурдной, не имеющей никакого отношения к рациональному знанию истории этого происхождения, которая, будучи произнесённой, вынуждает ту или иную вещь преобразиться так, как это необходимо знахарю, кузнецу, плотнику и т. д. Например, чтобы заставить железо прекратить мучить человека, которому оно раздробило колено, будучи лезвием топора, знахарь должен знать и уметь рассказать «биографию» железа — увлекательную повесть о том, как оно произошло из грудного молока трех небесных дев, затем скрылось в болотах и горах, испугавшись своего старшего брата, огня, но через время было выслежено, успокоено и примирено с роднёй кузнецом-космократором Ильмариненом.
Аналогичная песенная стратегия применяется и шаманом, когда он, заклиная свой бубен, побуждая его стать своим ездовым животным, рассказывает подробную историю его происхождения, которая начинается с повествования о том, как этот бубен появился из древесины «семи деревьев-однолеток, лиственниц восьмиветвистых», предназначавшихся «знаменитому шаману» и мечтавших присоединиться в образе бубна к его ритуалам[13].
Задумываясь о механизме работы этих «орудийных» песен, мы должны указать на специфику мышления саха и карельских колдунов, а точнее — на особое понимание ими личности, тела, природы и техники, а также процессов возникновения и распада: их мышление принципиально отличается от того, которое, по выражению Жиля Делёза и Феликса Гваттари, оперирует «субстанциальными формами и детерминированными субъектами»[14]. Так, одна из героинь «Калевалы», девушка Айно, утопая в заливе Белого моря, обращается к своей семье с предсмертными словами (песней), в которых завещает отцу, матери, брату и сестре никогда не ловить здесь рыбы, не брать отсюда воду для готовки, не поить из этого залива лошадей и не умываться в его волнах. Потому что сама Айно теперь — эти волны, рыбы, прибрежные травы и кустарник. Что это, как не становление волной-травой-рыбой-кустарником, которые, в свою очередь, становятся девушкой, аффектируясь её последними, предсмертными мыслями? Что это, как не преодоление идентичности девушки и вещественности кустарника или рыб проносящимися между ними линиями становления? Не удивительно, что далее Айно является главному герою «Калевалы» как «противоестественное» сочетание рыбки и человека — как некая третья, временно собранная из элементов одного и другого индивидуальность: «Вот пластать он хочет рыбку и брюшко пороть ей начал: / Вдруг из рук скользнула сёмга, в море бросилася рыбка, / С края лодки красноватой, из ладьи широкой Вяйнё. / Подняла из волн головку, правым боком показалась / На волне морской, на пятой, при шестом станке у сети. / Правой ручкой потянулась и сверкнула левой ножкой / На седьмой полоске моря, на валу зыбей девятом» (V, 80).
Аналогичным образом заклинатель, обучая и объезжая бубен, постоянно вводит в своё повествование мотив убийства матери-души той или иной вещи, чей распад должен послужить дальнейшему становлению бубна. И первым таким «убийством» оказывается избавление от целостности самого бубна, осуществляющееся через силовое воздействие шамана, его духов-помощников: «Мать-душа твоя не знает, что её сразить я должен, / Превратившись в оленёнка, став животным остророгим, — / Растерзать её рогами, расплескать её по миру. / И тебя я забодаю, став быком рябым и сизым!» (245). Однако почти сразу же речь заходит и о подорванной единичности самого шамана, бубен оказывается в его локтях, щеках, коленях, прорастает в нём новыми органами: «Ты будешь чутким ухом моим, / Ты будешь зрячим глазом моим, / Гибким коленом, согнутым локтем, / Моей повернутой щекой, / Движеньем, успокоеньем моим!» (248).
В мирах «Калевалы» и «Оживления бубна» нет как таковых знахаря и железа, девушки и прибрежного кустарника, шамана и его «ездового» инструмента, ни одного обособленного рода, вида, пола, гендера и т. п., которые были бы способны детерминировать то или иное существо. Есть лишь врéменные сопряжения бесконечно и произвольно движущихся потоков мысли и материи; сопряжения, которые непрерывно и взаимно «заражаются» интенсивностями. В результате в этом линейном узоре всё время возникают новые сопряжения (территории, тела), которые в следующий момент тоже будут смещены и сметены потоком превращений.
С такой точки зрения песни шаманов саха и карельских знахарей и мастеровых — орудия аффектации. Не случайно, и в «Калевале», и в «Оживлении бубна» подчёркивается, что таким орудием наделены не только люди, но и те, к кому они обращаются, — болезни, пиво, касатки, лебеди, ветры, деревья… В оживляющем заклинании шаман говорит бубну: «Одарённая дыханьем, словно дышащее пламя, / Наделённая напевом, песнею многообразной, / Будь выносливою, лошадь, если путь лежит на запад» (244). Сквозь 16-слоговой ритм «Калевалы» и «Оживления бубна» мы слышим, как гудят машины охоты, врачевания, ремесленничества карелов и саха.
Сюжет картины разворачивается вокруг молодого аспиранта-антрополога из маленькой страны Восточного блока, который приезжает изучать малоизвестное племя «карирера», проживающее на северо-западе Аргентины. Само название племени, как мы узнаем, не является самоназванием. Так называют этих аборигенов другие племена поблизости. В самом племени карирерой называется одежда, состоящая из гумусных повязок, в которые аборигены сажают семена цветущих растений, растущих в итоге на самом теле. Эта, казалось бы, незначительная деталь объясняет, почему среда обитания племени показана в фильме столь сильно отличающейся от остального аргентинского пейзажа: цветущие платья, например, становятся естественной могилой после смерти кого-либо из соплеменников, тело которого оставляют ровно там, где он умер. Место его смерти становится памятником-клумбой.
Антрополог, имя которого до конца фильма остается неизвестным, погружается в быт аборигенов, постепенно открывая для себя их мир. Мы узнаем, что карирера — продвинутое, или даже, если можно так выразиться, «прогрессивное» анимистическое общество, которое смогло преодолеть шаманскую спецификацию. Общество карирера радикально демократизировало способность перемещаться между различными мирами: шаманят все, в том числе мертвецы и нелю́ди[15]. Но это не главное открытие, с которым сталкивается исследователь. Изучая шаманские практики и наблюдая за жителями, он всё больше и больше замечает странные изменения поведения, которые приводят к событиям, служащим кульминацией второй трети фильма. Оказывается, аборигены демократизировали и инструментализировали не только шаманство, но и собственную плоть, создав мир, в котором духи беспрепятственно перемещаются между телами: случайно, по привычке или во время празднеств. В ходе очередного ритуала аспирант понимает, что оказался в обществе нелюде́й, среди которых животные, реки, предметы быта, инструменты и умершие предки. Так начинается последняя часть фильма, в которой мы узнаём, что все духи, независимо от того, в каком теле они находятся, видят мир и себе подобных как люди, что и позволяет беспрепятственно перемещаться между телами и находить общий язык в каждом новом обществе. В чьём бы теле ты ни оказался, ты попадаешь в общество людей, которые знают, что ты можешь быть кем угодно: с точки зрения души, тела не меняются и остаются человеческими, что позволяет сохранять межвидовой мутуализм. Главный герой постепенно сходит с ума. Он раз за разом убивает себя в каждом из миров, оказываясь в новом, ко всеобщему удивлению каждого из сообществ, в которых он оказывается. Понимая, что он больше не может опознать своё собственное тело, как и найти способ выбраться из мира карирера, антрополог смиряется со своей участью. Фильм завершается долгим крупным планом цветущего неизвестными цветами сгнившего яблока.
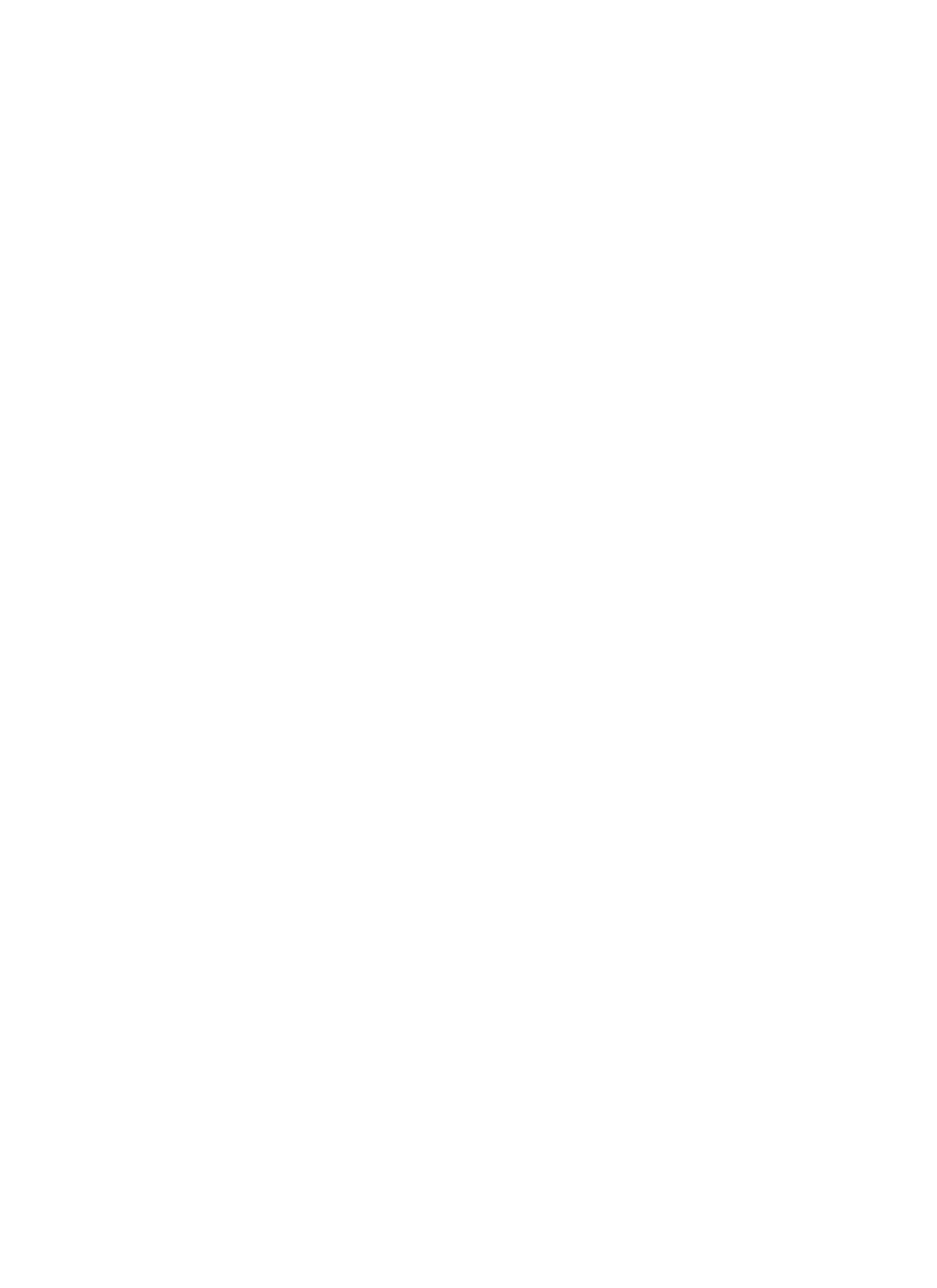
Нельзя сказать, что Леруа-Гуран не способствовал превращению различия между технической тенденцией и техническим фактом, характеризующим техногенез, в метафизический принцип. Неудивительно, что «чисто зоологический факт»[16] принципа экстериоризации техники перекочевал из этнологии в смежные дисциплины уже как «универсальная тенденция, которая возникает в процессе техноэволюции»[17], «нагруженная всеми сингулярностями и чертами выражения»[18]. С другой стороны, кажется логичным, что универсалия технической тенденции проистекает из универсальных первичных качеств. Природа и её законы одинаковы во все времена и во всех местах, поэтому и техническая тенденция является чуть ли не естественным законом (но также формой витализма, естественным образом вытекающей из творческого порыва: возможно, именно преемственность от Бергсона послужила тому, что тенденция имплицитно допускала метафизическое прочтение).
Между тем в рамках исходной дисциплины, в которой работал Леруа-Гуран, дуализм факта и тенденции рассматривался им в качестве трансцендентального условия достоверного знания в антропологии[19], тогда как сама по себе тенденция — это просто «удобный способ, который наша логика привносит в деятельность людей»[20] для работы с этнографическим материалом. Сопряжённость тенденции с техническим фактом не более чем условие техно-этнографического познания, тогда как разделение этого единства способствует переводу трансцендентального в трансцендентное. Переводу, который позволяет рассматривать тенденцию как предшествующую фактичности и каузально её обусловливающую. Видоизмененный таким образом Леруа-Гуран становится своим метафизическим двойником — реверс-инженером, всегда имеющим дело с UA/SP (Unidentified Aerial/Sea Phenomenon): превращение тенденции в причину предполагает возможность обратного движения от технического факта к его общему условию, что позволяет рассматривать летающие тарелки как частный пример общеразделяемой тенденции. Понятая так тенденция — это виртуальное основание реверс-инжиниринга, позволяющее шаг за шагом реконструировать принцип работы неизвестно как функционирующего образца, рассматриваемого в качестве технического именно благодаря общему для всех порыву, обеспечивающему «секрецию» и экстериоризацию техничности. Без этой возможности объект повисает в состоянии неопознанного феномена. Иначе говоря, трансцендирование технической тенденции — это и есть условие обратного проектирования, где принцип работы какого-либо объекта раскрывается как конкретизация условия его возможности. Тенденция как причина — это приписывание факту необходимости задним числом (приписывание, вытекающее из ограниченного числа возможных вариантов взаимодействия между живыми организмами и материей), без необходимости опыта или наличия факта. Необходимость фактичности вытекает из тенденции только в рамках определённой метафизики, тогда как возможность этнографии проистекает из того, что сперва в опыте должна быть дана фактичность, на основе которой и можно исторически сформулировать априори (универсальное лишь в конкретной исторической локальности).
Проблемой тогда является само представление о том, что тенденция может предшествовать факту. Проблемой, которая, несмотря на критику гилеморфизма, просачивается через каузальное раздвоение факта и тенденции. Столетиями философия учит, что душа есть сущность как логос. Сущностью топора было бы бытие топором; это не просто конечная цель техники, но её формальная причина или чтойность, выражаемая (и предшествующая) в логосе. «Пиление есть использование пилы»[21], «всякий инструмент (τὸ ὄργανον) существует ради чего-то»[22], — что подразумевает не столько пассивность материи и активность формы, сколько зависимость (за счёт тождественности) формы (то есть causa formalis техники) от логоса. Даже в собственной деятельности сущность техники остается такой же пассивной, как и пассивность материи. И логос оказывается тем, что всегда находится на стороне того уважаемого человека, который способен воспринять этот логос именно как логос (или собственный голос), (тенденцию) а не шум случайности иных активных причин. Античный органон — это инструмент, сообразующийся с целью, выраженной в логосе: техника не может мыслиться и обладать душой, если её сущность не логоцентрична. Поэтому технический факт не может предшествовать тенденции по определению, так как техническая тенденция является местом средоточия логоса: до конкретизации в факте логос пребывает в цели, которая присутствует и совпадает с душой того, кто этим логосом обладает. И это обладание устанавливает меру управляемости тем, что будет являться логосом и его производными, а что нет. Изнутри техники не вызвать диссенсуса, она остается на поводке (в конце концов, не-технической) тенденции и не способна заявить о несправедливости по чисто формальным причинам — её логос ей не принадлежит, она не может актуализироваться в действии без того, кто способен её чтойность использовать. Техника не обладает собственным логосом, и, говоря о форме, в действительности говорят о том, кто эту форму удостоверяет: не техника хранит в себе логос, а логос хранит в себе технику, тенденция необходимо сохраняется в каждый момент времени как сама возможность техники оставаться техникой. Только обладающий логосом способен использовать технику, то есть наделять душой (и распознавать её сообразно устройству собственной души).
«”В начале не было ничего, чистая пустота, ничто, не было ничего в начале времён, но уже были люди”. И весь мифический цикл показывает, что от изначально существовавших людей произошли все природные виды, феномены, планеты и так далее. Всё человечно, но в трансформированном виде. Люди — разновидность первоматерии»
Являются ли эти фигурки техническими объектами? В контексте сибирского перспективизма они не являются даже артефактами, за их производством скрывается способ умножения форм-жизни: это действующие элементы, акторы, обладающие интенциональностью и способностями (после завершения камлания фигурки прячутся в лесу, отправляются в «естественную» среду обитания: люди обходят их стороной, стараются не заходить на их территорию). Можем ли мы установить естественную техническую тенденцию, которая стоит за этими объектами? Только в том случае, если признаем, что техническим может быть нематериальное (или неприродное в модерном смысле). Как показывает Вивейруш де Кастру, культуры «отличаются тем, как именно они определяют, что относится к зоне ответственности агентов, то есть к миру “сконструированного”, и что относится (поскольку оно контрсконструировано как относящееся) к миру данного, то есть несконструированного»[26]. К миру данного в случае долгано-якутской реальности относится наличие души, которая есть голая, «действующая» перспектива, а не вместилище логоса: не пассивная монокулярная контемплация, а схизмоскопия как процесс неисцелимого раздвоения, не точка зрения, но векторы действия. Но является ли тогда фигурка сконструированной? С точки зрения нашей культуры — да, разумеется: шаман изготавливает её на наших глазах. Но не с точки зрения злого духа, который в эту фигурку переселяется (что подразумевает наличие души у такого объекта: злой дух не одушевляет «пустую» материю). «Истечением» чего в этом примере является конкретный объект? «Истечением» самой души или населяющих шамана душ (в своём вневременном, то есть неисторическом многообразии), а не мозга, тела или среды (и не логоса: души, населяющие тело, не являются душами в античном смысле, они не соотносятся с какой-либо целью или причиной); изобретением и освобождением его дыхания, экстериоризацией не памяти, но способности к действию: онтологическая диплопия, анархическая в силу отсутствия истока (души не рождаются и не создаются, они обнаруживаются как уже обладающие техникой, но не логосом). Технический объект в сибирском перспективизме является не продолжением логоцентричного тела, которое позволяет это тело и его органы открыть, но продолжением души в мире душ. Он функционирует в реальности отделяемых и активных способностей, сообщающих миру лишь собственное упрямое существование (которое нет необходимости удостоверять). Универсальность технической тенденции в изводе Леруа-Гурана проистекает из факта необходимого движения к освобождению инструмента от тела и тела от инструмента, движения, в котором удерживается необходимость их прорастания друг в друга. Мыслимое так тело подразумевает соприродность с техникой (техно-дарвинизм), автоматизм и специализация техники возможны благодаря способности к автоматизму и специализации тела или тел. В сибирском перспективизме освобождается перспектива от перспективы, точка зрения от пассивности и монокулярности (как если бы наше «двоится в глазах» подразумевало интенциональность того, что видит удвоенное, но не видит акта удвоения, предшествующего видению). И каждое раздвоение взгляда, каждая свежая душа становится местом применения новой, анимистической техники.
«Души одни и те же повсюду: всякое животное, растение или сущность наделены, по крайней мере потенциально, одной и той же разновидностью человекоподобной души, в основе которой лежат одни и те же атрибуты, те же наклонности, качества. Что их различает, так это различные качества и способности, заложенные в их материальных системах»
В романе есть фрагмент, в котором охотник даёт своим детям перед сном одно из «слов для видений». Вот оно:
«Изначально община была человеком, община была первым человеком, а я был его органом и орудием, но не отличал себя от всего его тела и не отличал предметы в моих руках от того, что это тело держало в руках во время охоты, от орудий первого человека. <…> Первая охота была одним лишь убийством, одним лишь удивлением, первый человек не разделывал туши и не поедал мяса убитого животного, а только восхищался переходом зверя в мир демонов и его возвращением. Первый человек ловил священного зверя, дитя молнии, чтобы расплавить свои оковы, оковы своей близорукости. Первый человек был слеп и перемещался наощупь, творя орудия и миры. Ни шага он не мог совершить, не создав орудия и мира, в котором созданное орудие совершает чудо. Всякое орудие есть приручение мира, но как приручить орудие? Первые кузнецы летали на своих молотах по ночам, днём прикидываясь добрыми соседями. Первый человек должен был приручить камень, оседлать его и полететь на нём. Наши жрецы до сих пор носят в задницах камень во время церемоний полёта, но давно перестали на камнях летать — это значит, что мы до сих пор в начале мира, охота продолжается. Каждый охотник сначала охотится по памяти, отыскивая забытое, отыскивая начало. Первый человек охотился на священного зверя, дитя молнии, которое согласится стать орудием. Первая охота была убийством дикого животного и рождением животного домашнего. Орудия и мир: кости убитого дикого животного становятся ножами и иглами, шкура становится одеждой, плоть становится плотью человека и говном, уходящим в землю; всё вокруг этих орудий превращается в приветливый дом. Прирученному ребёнку молнии предшествовало убитое дитя, в ребёнке молнии умерло дикое животное и родилось домашнее, но дикого ребенка молнии нужно было продолжать ловить, он просачивался через песок, делая его прозрачным, и в этой прозрачности отпрыск молнии становился наваждением, демоном, который мучает охотника во сне. Дикое дитя молнии — пожиратель мира, первому человеку требуется его плоть и кости, чтобы обрести инструмент, делающий в мире дыру, через которую веет воздухом края, где мира уже нет. Первый охотник ищет чуда, которое снимет с мира оковы его собственной тяжести. Для поиска чуда нужны орудия, нужны животные, которые научатся чудо вынюхивать. Первое орудие — это живое животное, второе — уже мертвое животное, которое продолжает жить в применении орудия, второе орудие — это прирученный мертвец, приученный выполнять волю хозяина, которая возвращает мертвецу жизнь как воспоминание. Каждая частица охотника когда-то была орудием — вот, что вспоминает охотник, становясь животным во время охоты. Когда-то охотники могли принимать форму любого существа — животного или демона; тела были ими полностью приручены.
Когда первый человек поймал священного зверя, дикого отпрыска молнии, появился наш мир, в центре которого лежит вырванное у священного зверя сердце, а край которого находится на кончиках его волос. Мы внутри, но как выйти наружу? Нужно достигнуть центра мира и заставить биться мёртвое сердце. Нужно создать священные орудия, которые будут помнить об убийстве, совершённом в начале, они позволят достичь центра мира. Нужно создать священные орудия, которые будут помнить священного зверя живым, а его сердце бьющимся. Это кровь для сердца мира, эти орудия заставляют его биться. Наконец, нужны орудия, которые позволят оседлать ожившего священного зверя, которые позволят выйти за край мира, увидеть его со стороны и направить его ход в пляс. Охотничье оружие и орудия одушевления, вот, что носит с собой охотник, который охотится один, который покидает общину в поисках той части леса, где он найдёт себе жену, в которой тоже погибнет дикое животное и родится домашнее, и заведёт детей, которые, наоборот, родятся как домашние, но потом станут дикими и убьют отца, перепутав его с животным. Охотник должен отделиться от общины и навсегда уйти в лес, стать вожаком стаи диких зверей и создать из них свой народ. Дикие звери — это одичавшие братья охотника. Вместе они создают нового первого человека.
Молния возвращается туда, откуда берёт начало.
Охотник вел этот рассказ, пока дети не уснут и не отправятся во сне на охоту за своим одичавшим отцом».
Глоссы кулинара. Вопрос о том, почему мы (не) остаемся в провинции, издавна был кулинарным по преимуществу. Прежде всего, необходимо признать: переводя город в село — переизобретая первый через дизъюнктивный синтез со вторым, — «мы» (то есть «неучёные») часто забываем о том, что село окружено не только полями, где можно — и нужно! — сажать картофель, но и лесами, где можно — и нужно! — собирать грибы. И, в частности, мухоморы, ведь целебные и «интересные» («межбытийные») свойства мухомора хорошо известны в том числе и «учёным», а кроме того, нельзя игнорировать технический смысл этих грибов, которые, наряду с бубном (и не только), составляют своего рода «техническое оснащение» шамана, обусловливая операцию «настройки» (как психотропной Stimmung) — установления канала связи шамана с духами. Можно — но нужно ли? — подвергать перевод города в село критике за оживление «хтони», вытесняемой прогрессистским разумом (одно из выражений такого подхода — брезгливое отношение города к «органической грязи крестьянства»). Как известно, столь нелюбимое прогрессистами (как левыми, так и правыми) оживление многократно похороненного, инициируемое в рамках проекта перевода города в село, принимает форму утверждения земледелия как сущностно археологической практики, но — и это важно — оживление отнюдь не ограничивается археологией, поскольку в пределе выводит исследователя в её иное: анархеологию. Поставленный анархеологом вопрос о смысле глубины требует пристального внимания и осторожного анализа, которые призваны нащупать её — глубины — глубинную двусмысленность. Но в первом приближении достаточно отметить: на деле критика перевода города в село за (повторное) укоренение (где «укоренение» по инерции толкуется как форма «картофельного фашизма») оказывается слишком поверхностной и, в конечном счёте, отвлечённой — спрашивается: от чего? Безусловно, от земли как основы — но основы, парадоксальным образом безосновной. Просвещение (и его выцветшие до голой схемы итерации) строит свои сооружения на земле, предварительно сметая всё с огороженных участков, где эти сооружения возводятся, но под землей тоже есть немало интересного (помимо нефти, газа и т. п.) — и это не только рассеянные частицы предков (достойные тщательного исследования в археологической перспективе), но и ветвящиеся корневища, клубни и, конечно же, нити мицелия (исследуемые, в свою очередь, с анархеологических позиций). Акцент на клубнях и грибах неизбежно подталкивает к необходимости провести линию перевода города в село дальше — в лес. Приняв эту линию за путеводную нить, анархеологи могут дать собственно кулинарный ответ на вопрос о том, почему мы остаемся в провинции (даже несмотря на то, что её «больше нет»), и ответ этот будет «картошка с грибами». (Утомлённый песнопениями, шаман с урчанием в животе осознал: пора подкрепиться!)
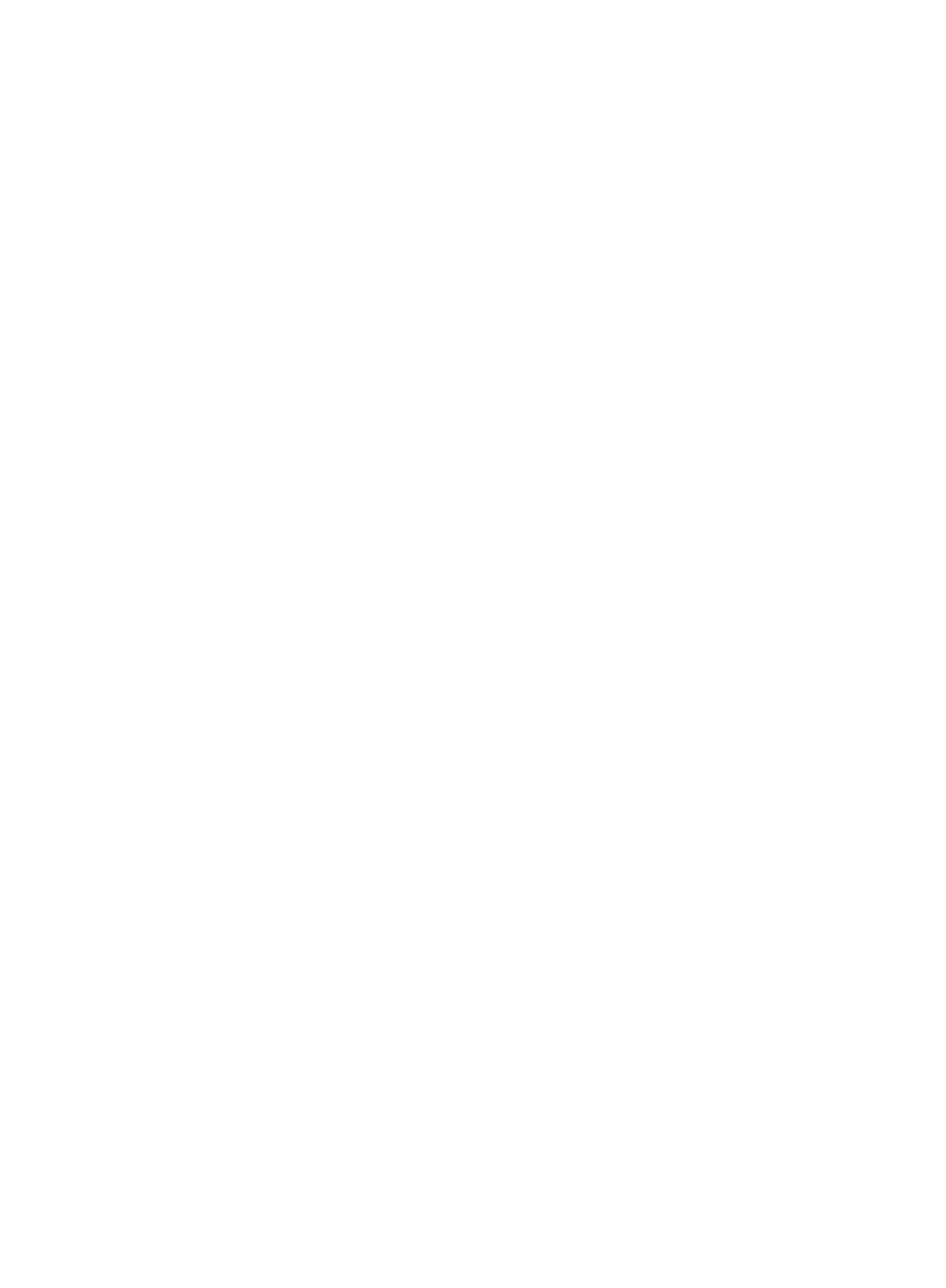
* * *
С нёбных валиков слетая, в луо-рыбу[1] воплощаясь,
Сверху донизу колеблясь, пёстрой рыбой обращаясь,
Краем губ овладевая, низом, верхом, быстротою,
Колыханьем, потрясеньем, изо рта стремится слово[2]!
Семь деревьев-однолеток, лиственниц восьми ветвистых,
Взросших на спине вселенной, с ивовой подпорой-тростью,
Наклоненными ветвями по земле стелясь к востоку[3],
А спиной на запад стоя, у вселенной на загривке, —
Знаменитому Шаману от роду предназначался
Полым бубном стать желая, с множеством подвесок медных,
Суетливостью болезней[4] устрашающих стать желая,
С круглой шапкою-подвеской, с рукояткой-крестовиной[5],
Вещим, важным стать желая, — созревали, вырастали!
От твоих сварливых мыслей начисто освобождайся,
Гнев твоих могучих мыслей наглухо изгладь, очисти[6]!
Круглым, полым, вещим, важным — станешь, лиственница, бубном!
Пред тобой, отважным, стоя, украшенья заклинаю,
Побрякушки и подвески подбираю, собираю,
Шеркунцы твои приладив, колокольчики подвесив,
Мягкой, важной наделяя рассыпающейся гривой,
Бубен с круглое озёрко, замерзающее сразу,
Круглый бубен превращаю, делаю конём могучим,
Превращаю, сотворяю лошадь быструю из бубна,
Делаю пером блестящим, золотым крылом шумящим.
В верхний мир шумя, сверкая улетающий «кюсянга»!
В нижний мир спустись со звоном, будь конём отменно грозным!
Ты, отважный, славный бубен, в девять полостей[7] звучащий,
В три ременные затяжки[8] перетянутый исправно,
Загуди, о бубен — шкура двоетравого телёнка!
Затрещи, о бубен — шкура трёхвесеннего телёнка!
Зареви, о бубен — шкура четырёх годов скотины[9]!
В край далёкий, безграничный, ты, отважный, отправляйся,
Иноходью ускачи ты, резвой рысью унесись ты,
Мчись конём золотокрылым, прянь поверх воды болезней[10]!
Прилетая, прибывая, вскачь от мощных стран являйся!
Путешествие удачно, счастлива твоя поездка!
В трёх местах железный пояс спину выгнутую вяжет, —
Будь берестяной урасе, трижды связанной, подобен!
Одарённая дыханьем, словно дышащее пламя,
Наделённая напевом, песнею многообразной,
Будь выносливою, лошадь, если путь лежит на запад,
В ту страну нечистых духов, злых, лукавых абаасы!
И когда на юг придётся, не оглядываясь, ехать,—
Будь скакун неутомимый с быстрой, ровной иноходью!
Направляясь даже к духу светлой стороны восточной, —
Будь ты, лошадь, сильной, бурой, резвой, молодой, счастливой!
Если даже к Хомуллагас[11], и к мрачно-севериомуроду,
На зловещую дорогу я тебя вступить заставлю, —
Завертись волчком и прыгни, развевая хвост звенящий!
Мать-душа тебе, отважной, наяву пути укажет,
А отец-душа[12], взъерошась, странствовать с тобою будет!
Без вреда носи по свету эти выгнутые щеки!
Возомнив теперь немало, донимая, допекая,
Отдаляя, выгнув щеки, ноздри пятнами отметив,
Будь, отважный бубен-лошадь, с куличком чок-чок кричащим,
Будь с кукующей кукушкой, будь с гогочущей гагарой[13],
На высокий твой загривок хитроумно усадивши,
По спине твоей округлой мерно бить меня заставив!
От тебя благие мысли не бегут, мой конь отважный,
И издавна не отходят угрожающие мысли.
Мы с тобою, конь мой, бубен, исцелителями будем
Для людей косноязычных, для якутов-урянхайцев,
Изувеченных, недужных, впавших в тяжкие проступки.
Вещью вещего шамана, знаменитого шамана,
Будь-ка ты, отважный бубен, бубен-чудо, бубен-лошадь!
Я большой шаман-хозяин, я шаман длинноволосый,
Тот, что топает подошвой и пристукивает пяткой, —
Вот кому принадлежишь ты, вот ты чей, отважный бубен!
Мать-душа твоя не знает, что её сразить я должен,
Превратившись в оленёнка,став животным остророгим,—
Растерзать её рогами, расплескать её по миру.
И тебя я забодаю, став быком рябым и сизым!
Мычит, подражая быку; опрокидывает бубен перед собою и, трижды обходя кругом на четвереньках, бодает его выступы и ударяет одной рукою — колотушкой. В левом углу юрты шаман выпрямляется, берёт бубен в руку, бьёт колотушкой и продолжает заклинать:
Побежден ли ты, отважный, ты осилен ли, мой крепкий?
А ведь я тебя осилил, победил тебя я, бубен!
Мне тебя приходит время сделать ездовым животным!
Садится верхом на бубен; ударяя его то спереди, то сзади, кружится волчком, выкрикивает: «сай! сат!», как бы погоняя лошадь. Некоторое время поёт без слов. Потом начинает заклинать:
Упряжная лошадь, конь верховой!
Надёжная ты повозка моя!
Крыло для полёта! Вихрь золотой!
Звени, залейся подвесками!
Отважный конь, укрощённый зверь!
Шуми, рассыпься привесками!
Осилил тебя, смирил я тебя!
Ну, вот победил я, кажется!
Я донял тебя, развольничался!
Душу-мать забодал, отважный, твою!
И среднего мира твоя судьба,
Вселенной твое назначение,
И глинистой почвы зрелость и рост,
Большое определение,
И вот, завещание крепкое, — всё
Нарочно мне предназначено[14]!
Путей хозяева создали так.
Разбрызнись же, счастье быстрое!
Меня повисшим вниз головой,
Меня упирающимся узнав,
Умчи от страны закрученных трав,
Деревьев, свёрнутых вкруг себя!
Я здесь исстрадался! Рысью скачи!
Прислушайся к крикам: «Сай! Сат! Суй! Суй!»
Отважным, послушным пегим конём
Кружись и скачи! На землю вернись!
Трижды обносит бубен вокруг себя. Идёт к углу, что около выходных дверей. Заклинает:
Владелец вороных, беломордых коней,
Живущий в верхнем мире, — велел,
Хара-Суорун назначил тебе:
Навязчив будь и возлюблен будь,
Укрощённый конь неотступно будь,
Наверх поднимись и вниз не вернись,
Как молния пёстрой лошадью будь!
Вот этой вещи мать-душу убей,
Кусочки её подбери, собери,
Её с привесками соедини,
С бубенчиками её сочетай,
Её колокольчики задержи,
К её побрякушкам привыкай,
От крестовины её оторвись,
Выпячивай девять выпуклостей!
Оглуши нас гулом! Гуди, шуми!
Самым счастливым бубном будь!
Радость! Счастье! Строптивый, смирись!
Запальчивым пламенем ныне стань,
Гори священным, прекрасным огнём!
Гнутое дерево, бубном став,
Навек счастливым, удачливым будь
Даже в болезнях, даже в беде!
Восемьдесят дошлых духов призвав,
Девяносто голодных волков собрав,
Семьдесят ярых медведей поймав[15],
Счастливым будь, удачливым будь!
Девяти улусов отрадой будь!
Семи улусов оградой будь!
В нижнем мире, вдоль и поперёк, —
Задние ноги пусть не скользят,
Не споткнутся передние пусть,
Лучший мальчик пусть держит узду,
Пусть никогда не сползёт седло, —
Лучшей отважной лошадью будь
Большого жертвенного пути!
К высокому, важному месту пусть
Тебя с молитвою поведёт
Твоя отважная мать-душа!
Ты будешь чутким ухом моим,
Ты будешь зрячим глазом моим,
Гибким коленом, согнутым локтем,
Моей повёрнутою щекой,
Движеньем, успокоеньем моим!
Речистым будь, говорливым будь!
От болезненных приступов огради!
Отродье невидимых запирай[16]!
Лишнее, вредное прибирай,
Великое чудище, бубен-конь!
Солнце — перья, луна — крыло,
Рог — звезда, единственный глаз,
Грозный, сильный, полый барабан, —
Запряжён и зануздан ты!
Главной хвори, внезапной беды
Ты основную причину знай,
Гони, преследуй ее, донимай,
Не расшатайся, не ослабей!
Смотри — обратно не расплесни!
Духи-хозяева славных мест,
Бабушек-государынь рек,
Испещрённые лики озёр,
Поводья пёстрых горных хребтов, —
Слушайте вы, отважные, нас!
Силой и помощью будьте нам!
Деревья, выгнутые вперёд,
Три гнутые однолетки-ствола —
Вот основа, бубен, твоя,
Быстрее быстрого ухвачу,
Тебя, отважного, поглочу,
Кожей высохшею обив,
Полосатую приготовив плеть
С переднюю ногу молодого бычка, —
По крайнему небу, шумя, пронесусь!
Путь мой — алого облака край,
Золотого, западного облака низ;
Раскрыв крылья, вниз головой
Устремясь, вылетев, унесусь!
Опрокинув бубен, кладёт на пол; трижды обойдя кругом на коленях, бодает головой девять его выступов. Встаёт, берёт в руки бубен и, ударяя по нему, продолжает заклинания:
В той мерцающей, темной, далекой стране,
В том воспетом краю, где заблудишься ты,
Там, где сосны ноют, там, где травы ревут,
Где взывают оставшихся ив голоса,
Где оставшиеся деревья мычат,
Где берёзы бряцают и тальник звенит,
Где железной осокой земля заросла,
В страшных чащах, где даже напёрстку не встать,
В диких дебрях, где ножницам даже не лечь,
В этих бедственных зарослях, в лютой глуши,
Где иголки — и той не удастся воткнуть, —
Там, с рябыми ноздрями, хозяйка земли,
Сибие-сяйден шаманка и Кюлюк-Сюёдер[17].
Вы, отважные, в гости не вздумайте к ним,
Не пытайтесь войти, чтобы высмеять их!
Этой вещи отважной мать-зверь, мать-душа,
Обернувшись зелёною мухой-слепнем
Или стянутой в поясе жёлтой пчелой,
Пролетела, быть может, гористой страной,
Посетила, быть может, Кюлюк-Сюёдер,
И об этом, пожалуй, уж знаете вы?
Хоть не знайте, хоть знайте — не буду менять!
Ты от средних, от серых назначена стран,
Обуздаться тебе, основаться тебе,
Заплетая деревья, запутав траву, —
Быть великой страной! Уйаях! Уйаях!
Бросает бубен и ложится навзничь. Так он «ныряет»; его руки и ноги начинают переплетаться, как скрученные верёвки[18]. Кто-нибудь из присутствующих вынимает из веника прут, проводит им по рукам и ногам шамана; они перестают скручиваться. Продолжая летать, шаман ловит руками уходящую душу бубна, зажимает её в кулак, берёт в рот и очень долго разжевывает. Затем садится, берёт в руки бубен и, держа его горизонтально, выплёвывает туда душу, всё время ударяя по бубну снизу колотушкой. После этого опрокидывает бубен вверх стороной, обтянутой кожей, и лижет, а затем садится на шкуру и, ударяя по бубну, продолжает:
Соответствие вижу, сравненье нашёл!
Круглым бубном, звенящим бубном ты стал!
Я мать-душу твою затравил, загнал,
Разжевал её, съел, до конца проглотил!
Ты, отважный, упряжным животным стал,
Верховая лошадь, приятель, ты,
Знаменитая, славная защита-вещь!
Одноглазый будь, пешнеклювый[19] будь,
Прозорливому белому шаману[20] служи,
Чтоб отважным и чутким он был всю жизнь,
Чтобы век не случилось споткнуться ему,
Чтобы век не скользили ноги его[21]!
А когда от всех народов земли
Соберутся шаманы толпою к нам, —
Ты железным панцирем[22], бубен, будь!
Ты железным прикрытьем, отважный, стань
Ну, а если нам с тобой суждено
Быть удачливыми и богатыми, —
В десять дней пройдя топотливый путь,
Изо рта шеститравого жеребца,
С подвижного нёба его слетев, —
Устремимся вверх[23]! Пусть будет так!
Бьёт себя колотушкой несколько раз по голове, трётся о бубен щеками, плечами, коленом, затем кладёт его на землю, ещё раз трётся щекою и говорит:
— Пятикопеечной медной монеты нет ли?
Жена шамана подаёт монету. Шаман проглатывает её и начинает бить себя колотушкой по животу. Проглоченная монета вдруг, оказывается, лежит на бубне. Шаман крестообразно проводит ребром её по коже, обтягивающей бубен, и выходит на улицу — освобождать внедрившихся в него духов.

