
//Жильбер Симондон / 8 сентября 1953 года, Сент-Этьен
Впечатление неограниченной, безоговорочно подлинной реальности света. Не вещи как субстанция — теряют и вновь обретают реальность вихри отношений: путешествия, свет, солнце; наружность камней, а не их глубинная вещность. Зерно вещей и не вещей.
//Иоганн Теснериус / О природе магнитных явлений
Возьми вместилище из железа, вроде вогнутых стёкол, снаружи украшенное выгравированными узорами не только ради красоты, но также ради легкости, ибо чем легче сосуд, тем легче его можно привести в движение. Но он не должен быть при этом прозрачным, так чтобы можно было бы видеть заключенную в нем тайну.
//editorial core
Денис Шалагинов
Иван Спицын
Евгений Кучинов
Сергей Кочкуров
//mutual aid sq
Владислав Жигалов, Алексей Конаков, Дмитрий Кралечкин,
Егор Гализдра, Иван Аксёнов, Александр Ветушинский, Иван Напреенко, Майкл Мардер, Хилан Бенсусан, Радек Пшедпельский, Арсений Жиляев, Георгий Федоровский, Мэттью Сегалл, Бен Вудард, Тим Ингольд,
Маяна Насыбуллова, Ярослав Михайлов, Алексей Дорофеев, Кендзи Сиратори, Юк Хуэй, Джесси Коэн, Никита Сазонов, Катя Никитина, Аня Родионова, Коля Смирнов, Антон Крафтский, Никита Архипов, Тим Элмо Фейтен, Аня Горская, Джейкоб Блюменфельд, Саша Скалин, Эдвард Сержан, Кирилл Роженцов, Илья Поляков, Артём Морозов,
Дмитрий Скородумов, Илья Гурьянов и другие.
TG / INST / FB / VK
Впечатление неограниченной, безоговорочно подлинной реальности света. Не вещи как субстанция — теряют и вновь обретают реальность вихри отношений: путешествия, свет, солнце; наружность камней, а не их глубинная вещность. Зерно вещей и не вещей.
//Иоганн Теснериус / О природе магнитных явлений
Возьми вместилище из железа, вроде вогнутых стёкол, снаружи украшенное выгравированными узорами не только ради красоты, но также ради легкости, ибо чем легче сосуд, тем легче его можно привести в движение. Но он не должен быть при этом прозрачным, так чтобы можно было бы видеть заключенную в нем тайну.
//editorial core
Денис Шалагинов
Иван Спицын
Евгений Кучинов
Сергей Кочкуров
//mutual aid sq
Владислав Жигалов, Алексей Конаков, Дмитрий Кралечкин,
Егор Гализдра, Иван Аксёнов, Александр Ветушинский, Иван Напреенко, Майкл Мардер, Хилан Бенсусан, Радек Пшедпельский, Арсений Жиляев, Георгий Федоровский, Мэттью Сегалл, Бен Вудард, Тим Ингольд,
Маяна Насыбуллова, Ярослав Михайлов, Алексей Дорофеев, Кендзи Сиратори, Юк Хуэй, Джесси Коэн, Никита Сазонов, Катя Никитина, Аня Родионова, Коля Смирнов, Антон Крафтский, Никита Архипов, Тим Элмо Фейтен, Аня Горская, Джейкоб Блюменфельд, Саша Скалин, Эдвард Сержан, Кирилл Роженцов, Илья Поляков, Артём Морозов,
Дмитрий Скородумов, Илья Гурьянов и другие.
TG / INST / FB / VK
IN MEMORY OF BARAK RAZIN
Этот небольшой архив был найден в одном из заброшенных домов в посёлке Северный Нижегородской области и передан в местную районную библиотеку им. И.А. Рязановского. Архив содержит описанные клинические случаи, дневники и рисунки бывшего фельдшера Заречного психоневрологического интерната (сейчас Варнавинского), Барака Разина. Он родился в 1951 году в семье политзаключенного УНЖЛАГА и местной крестьянки. Среднее специальное образование получил в Горьком. В интернате работал с середины 70-х по 90-е годы. После объединения Лапшангского и Заречного отделений ушел из профессии. С тех пор его местоположение неизвестно.
Интернат был основан в 1961 году на месте женского отдельного лагерного пункта. Принимал (и принимает) на жительство людей с психическими отклонениями и зависимостями, людей без определенного места жительства, бывших заключенных, пожилых и инвалидов. Долгое время интернат не ограничивал специально перемещений своих жителей. Больные свободно гуляли по близлежащим посёлкам и лесу, устраивались на подработку в колхозы и на местный хлебзавод. Подрабатывали кочегарами, помогали за скромную плату жителям Северного (кололи дрова, помогали с хозяйством). Имели собственное кладбище, на котором надгробия маркировались номерами.
В немногочисленных дневниковых записях раскрывается интерес Барака Разина к интернату и его жителям. В них он производит мир, населенный «зверями» — подобно Мишелю Фуко сепарируя разум и не-разумие, он витализирует последнее. Полностью отделяя его от человеческого, Разин делает из разума (а в наиболее напряженных фрагментах — из любого объекта) что-то вроде среды обитания для до-земных существ, способом выразительности которых и является то, что наблюдается в качестве бреда. Реальность заселяется «зверями», ничего не знающими о реальности, но существующими в химерных модусах интенциональности. В описании этих модусов Разин будто бы становится сосудом для воскрешения Мориса Мерло-Понти, изрядно мутировавшего за время пребывания среди мертвецов. Феноменология способов существования зверей превращается здесь в спекулятивную парафеноменологию, пытающуюся описать опыт жизни, которая актуальна как неоформляемая способность материи.
Орфография и пунктуация автора сохранены. Отсутствующие фрагменты помечены знаком <…>. По мере расшифровки архив будет пополняться.
Интернат был основан в 1961 году на месте женского отдельного лагерного пункта. Принимал (и принимает) на жительство людей с психическими отклонениями и зависимостями, людей без определенного места жительства, бывших заключенных, пожилых и инвалидов. Долгое время интернат не ограничивал специально перемещений своих жителей. Больные свободно гуляли по близлежащим посёлкам и лесу, устраивались на подработку в колхозы и на местный хлебзавод. Подрабатывали кочегарами, помогали за скромную плату жителям Северного (кололи дрова, помогали с хозяйством). Имели собственное кладбище, на котором надгробия маркировались номерами.
В немногочисленных дневниковых записях раскрывается интерес Барака Разина к интернату и его жителям. В них он производит мир, населенный «зверями» — подобно Мишелю Фуко сепарируя разум и не-разумие, он витализирует последнее. Полностью отделяя его от человеческого, Разин делает из разума (а в наиболее напряженных фрагментах — из любого объекта) что-то вроде среды обитания для до-земных существ, способом выразительности которых и является то, что наблюдается в качестве бреда. Реальность заселяется «зверями», ничего не знающими о реальности, но существующими в химерных модусах интенциональности. В описании этих модусов Разин будто бы становится сосудом для воскрешения Мориса Мерло-Понти, изрядно мутировавшего за время пребывания среди мертвецов. Феноменология способов существования зверей превращается здесь в спекулятивную парафеноменологию, пытающуюся описать опыт жизни, которая актуальна как неоформляемая способность материи.
Орфография и пунктуация автора сохранены. Отсутствующие фрагменты помечены знаком <…>. По мере расшифровки архив будет пополняться.
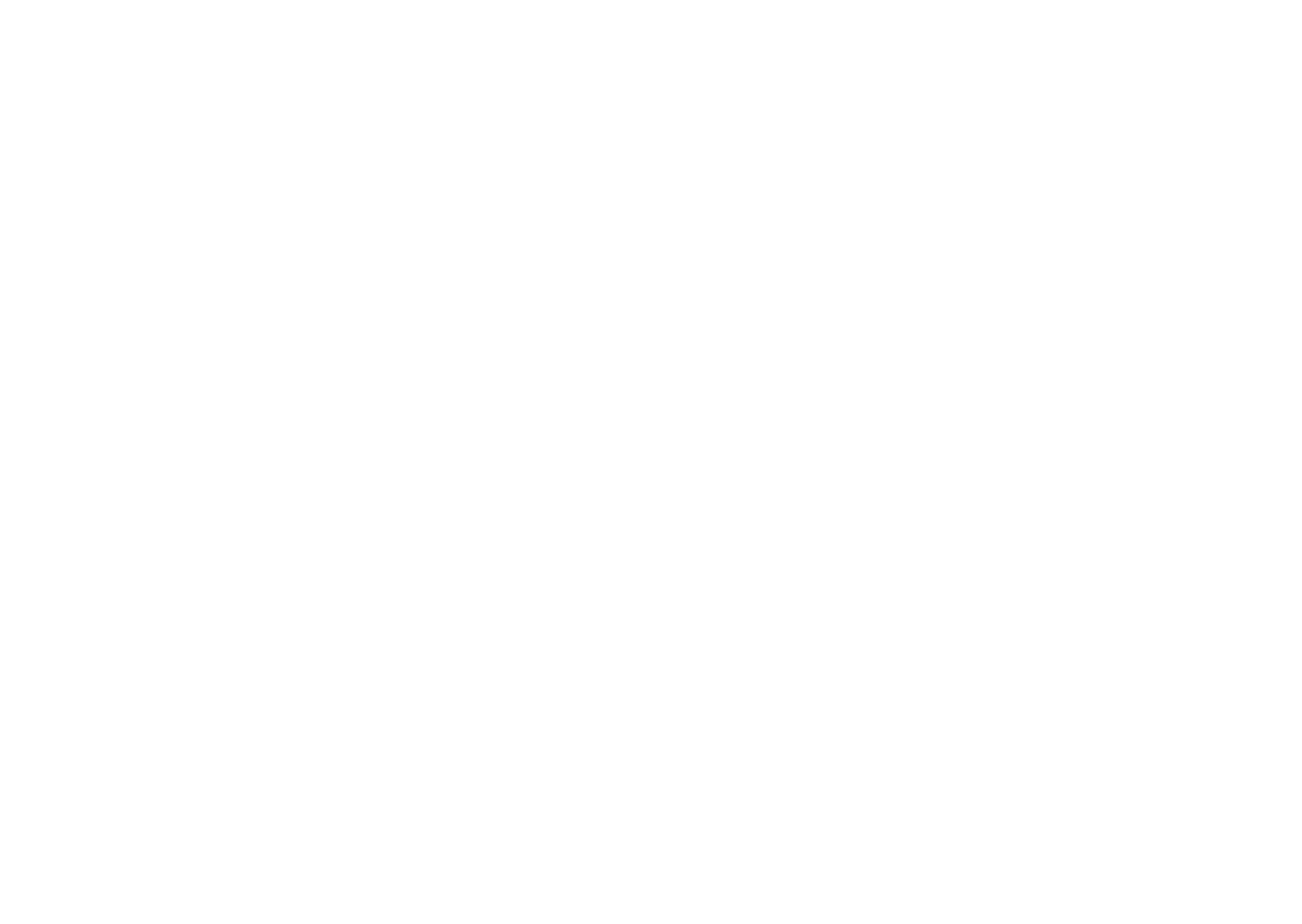
Нозологические формы:
Больной К.П. 43 лет.
Диагноз: шизофрения с вялым течением и психопатоподобными проявлениями. Болен лет с 17.
В статусе: Отвечает бурной реакцией. Склонен к агрессии. Часто отвлекается. При тщательном обследовании выявляется феномен «перенаселенности тела», проявляющийся в ощущении К., что в тех или иных частях тела (чаще в руках и глазах) живут «призраки», которым больной предоставляет свое тело как дом.
Больная А.Т. 34 лет.
Диагноз: травматическая болезнь. Жалуется на головокружения.
В статусе: замкнута, память и формальные способности заметно снижены. Выявляются нистагмы, абсансы, подергивание лицевых мышц. Больная утверждает, что при пробуждении все, что она полагает как живое, начинает производить свои копии, «гнёзда». При движении животные оставляют за собой след, который становится отдельным животным. При попытке закрыть глаза, «гнёзда» перемещается в умозрительную галлюцинацию, «в подкорку», начинает жить и воспроизводиться в голове.
Больной А.С. 23 лет.
Диагноз: алкогольный психоз.
Часто стационировался после алкогольного делирия. Состояние сопровождается расстройством сознания, с ухудшением ночью. Ночью, внезапно, начинает чувствовать перемещение своих конечностей во времени через «кротовины».
Больной С.С. 27 лет.
Диагноз: алкогольный психоз.
Острое психотическое состояние сопровождается расстройством сознания, бредом, страхом. По утрам начинает слышать голос из своего живота, называющий себя «богом членистоногих». Этот голос призывает больного найти детали некоего «корабля», чтобы отправиться на поиски «микробного созвездия».
Больной И.К. 38 лет.
Диагноз: острый парафренный бред.
В статусе: несмотря на то, что сам по себе больной достаточно застенчив, о себе рассказывает, тем не менее, с большим нескрываемым удовольствием. Чем дальше продвигается в рассказе, тем больше мышление становится паралогическим. Высказывает мысль о том, что он награжден особым, «рубиновым» зрением, которое позволяет ему выявлять и устранять «колючие промежутки»: так он называет только ему видимые, подсвеченные его зрением некие застывшие участки в воздухе, которые вынуждают все находящееся рядом «замирать и бурлеть» в оцепенении. О своей роли в устранении этих участков и технологии устранения больной рассказывать отказывается.
Больной Р.М. ?? лет.
Диагноз: шизофрения, конфабуляции.
В статусе: больной был найден в лесу, в нескольких километрах от населенного пункта. Жил в землянке, судя по всему продолжительное время.
Характер нестабильный. Чаще всего замкнут и агрессивен. После приема пищи (Р.М. ест только хлеб) бывает весел и разговорчив. О том, как попал в землянку, высказывается различно, демонстрируя фиктивные воспоминания. Наиболее правдоподобна следующая история: в отроческом возрасте заблудился с матерью в лесу, в поисках грибов. Мать скончалась. Р.М. говорит, что от «килы» (простонародное обозначение опухолей, которые по поверьям насылаются на человека нечистыми силами или колдунами), которую якобы кинуло на нее некое дерево. При смерти мать просила сына закопаться в землю вместе с ней. Стоит отметить, родители Р.М. найдены не были. Также высказывает версии о том, что в землянке он «взрос» самостоятельно: «Как картофелину себя нашел под землей и вылез» или «Уродился вместе с мышатами в корнях, там и остался». Несмотря на то, что больной обладает достаточно складной речью, высказывается, что человеком себя не считает и чувствует себя среди людей «как овощ в погребке».
Больная А.К. 22 года.
Диагноз: параноидный синдром.
В статусе: Травматические переживания, страх, общая тревожность. Попала в стационар ночью. Проснулась от того, что будто бы кто-то «метает горох» на улице (таким образом обозначается распространенный ритуал у влюбленных молодых людей: ночью в тишине начинают бить бревном по срубу дома, получая звук раскатистого грома). Больная никого не обнаружила на улице. Вернувшись в дом, почувствовала вибрации от звуков у себя в грудной клетке, «будто кто-то по ребрам елозит». Пытаясь уснуть в горячке увидела следующую картину: у нее в сердце стали появляться «почки деревьев», которые «чешутся, свербят и плодятся», прорастая при этом гнилостными «корягами» в кровеносную систему, заполняя собой «душу».
Больная С.А. 56 лет.
Диагноз: шизофрения, параноидная форма.
В статусе: Подозрительность, трудности с сосредоточением, при этом наблюдается склонность находиться ближе к социуму. Первое время стационировалась с острой слепотой невнимания: переставала видеть и замечать людей. Замечала их присутствие только при звуке голоса. Позже слепота невнимания сменилась параноидным бредом. Больная утверждает, что всегда кто-то ходит или сидит рядом с ней, кто находится в слепой зоне и молчит, что не позволяет ей его увидеть. На сообщения о том, что в комнате никого кроме нее нет, не реагирует.
Диагноз: шизофрения с вялым течением и психопатоподобными проявлениями. Болен лет с 17.
В статусе: Отвечает бурной реакцией. Склонен к агрессии. Часто отвлекается. При тщательном обследовании выявляется феномен «перенаселенности тела», проявляющийся в ощущении К., что в тех или иных частях тела (чаще в руках и глазах) живут «призраки», которым больной предоставляет свое тело как дом.
Больная А.Т. 34 лет.
Диагноз: травматическая болезнь. Жалуется на головокружения.
В статусе: замкнута, память и формальные способности заметно снижены. Выявляются нистагмы, абсансы, подергивание лицевых мышц. Больная утверждает, что при пробуждении все, что она полагает как живое, начинает производить свои копии, «гнёзда». При движении животные оставляют за собой след, который становится отдельным животным. При попытке закрыть глаза, «гнёзда» перемещается в умозрительную галлюцинацию, «в подкорку», начинает жить и воспроизводиться в голове.
Больной А.С. 23 лет.
Диагноз: алкогольный психоз.
Часто стационировался после алкогольного делирия. Состояние сопровождается расстройством сознания, с ухудшением ночью. Ночью, внезапно, начинает чувствовать перемещение своих конечностей во времени через «кротовины».
Больной С.С. 27 лет.
Диагноз: алкогольный психоз.
Острое психотическое состояние сопровождается расстройством сознания, бредом, страхом. По утрам начинает слышать голос из своего живота, называющий себя «богом членистоногих». Этот голос призывает больного найти детали некоего «корабля», чтобы отправиться на поиски «микробного созвездия».
Больной И.К. 38 лет.
Диагноз: острый парафренный бред.
В статусе: несмотря на то, что сам по себе больной достаточно застенчив, о себе рассказывает, тем не менее, с большим нескрываемым удовольствием. Чем дальше продвигается в рассказе, тем больше мышление становится паралогическим. Высказывает мысль о том, что он награжден особым, «рубиновым» зрением, которое позволяет ему выявлять и устранять «колючие промежутки»: так он называет только ему видимые, подсвеченные его зрением некие застывшие участки в воздухе, которые вынуждают все находящееся рядом «замирать и бурлеть» в оцепенении. О своей роли в устранении этих участков и технологии устранения больной рассказывать отказывается.
Больной Р.М. ?? лет.
Диагноз: шизофрения, конфабуляции.
В статусе: больной был найден в лесу, в нескольких километрах от населенного пункта. Жил в землянке, судя по всему продолжительное время.
Характер нестабильный. Чаще всего замкнут и агрессивен. После приема пищи (Р.М. ест только хлеб) бывает весел и разговорчив. О том, как попал в землянку, высказывается различно, демонстрируя фиктивные воспоминания. Наиболее правдоподобна следующая история: в отроческом возрасте заблудился с матерью в лесу, в поисках грибов. Мать скончалась. Р.М. говорит, что от «килы» (простонародное обозначение опухолей, которые по поверьям насылаются на человека нечистыми силами или колдунами), которую якобы кинуло на нее некое дерево. При смерти мать просила сына закопаться в землю вместе с ней. Стоит отметить, родители Р.М. найдены не были. Также высказывает версии о том, что в землянке он «взрос» самостоятельно: «Как картофелину себя нашел под землей и вылез» или «Уродился вместе с мышатами в корнях, там и остался». Несмотря на то, что больной обладает достаточно складной речью, высказывается, что человеком себя не считает и чувствует себя среди людей «как овощ в погребке».
Больная А.К. 22 года.
Диагноз: параноидный синдром.
В статусе: Травматические переживания, страх, общая тревожность. Попала в стационар ночью. Проснулась от того, что будто бы кто-то «метает горох» на улице (таким образом обозначается распространенный ритуал у влюбленных молодых людей: ночью в тишине начинают бить бревном по срубу дома, получая звук раскатистого грома). Больная никого не обнаружила на улице. Вернувшись в дом, почувствовала вибрации от звуков у себя в грудной клетке, «будто кто-то по ребрам елозит». Пытаясь уснуть в горячке увидела следующую картину: у нее в сердце стали появляться «почки деревьев», которые «чешутся, свербят и плодятся», прорастая при этом гнилостными «корягами» в кровеносную систему, заполняя собой «душу».
Больная С.А. 56 лет.
Диагноз: шизофрения, параноидная форма.
В статусе: Подозрительность, трудности с сосредоточением, при этом наблюдается склонность находиться ближе к социуму. Первое время стационировалась с острой слепотой невнимания: переставала видеть и замечать людей. Замечала их присутствие только при звуке голоса. Позже слепота невнимания сменилась параноидным бредом. Больная утверждает, что всегда кто-то ходит или сидит рядом с ней, кто находится в слепой зоне и молчит, что не позволяет ей его увидеть. На сообщения о том, что в комнате никого кроме нее нет, не реагирует.
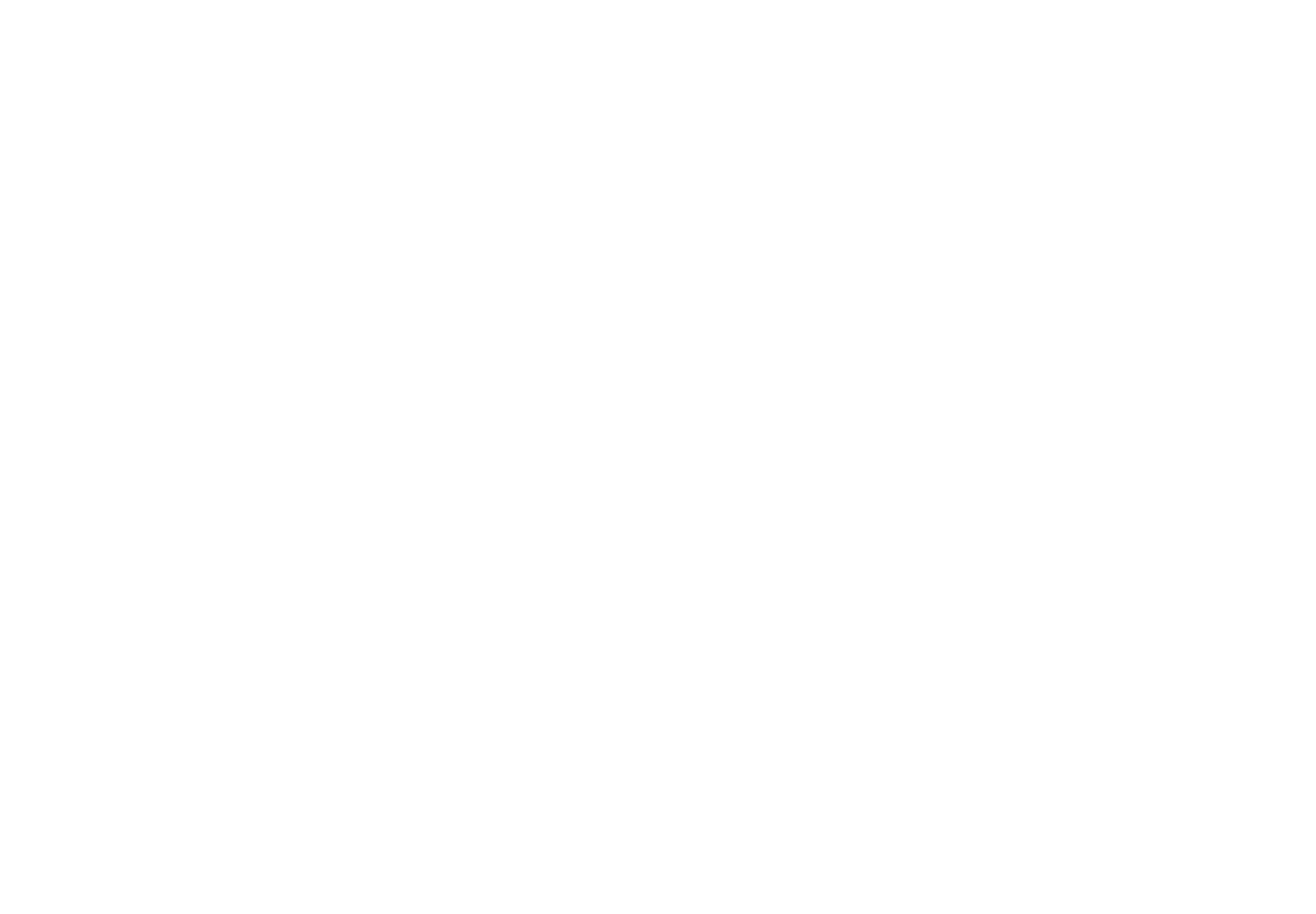
Больная А.А. 24 года.
Диагноз: Фантосмия, шизофрения.
В статусе: Больная попала к нам после реанимации. Пыталась сжечь свой дом, пострадала при пожаре. Характер сложный, на вопросы отвечает язвительно, часто принципиально игнорирует окружающих. В связи с повреждением парагиппокампальной извилины, стала испытывать обонятельные галлюцинации. Еще в реанимации жаловалась на резкие запахи, природу которых не могла описать. Уже наблюдаясь у нас, стала описывать эти запахи субъектно, используя при этом не качественные характеристики, а скорее поведенческие: «он пахнет оскорблениями» или «воняет слабостью». Позже запахи оформились в конкретные личности, которые больная способна различать и называть поименно. Отмечает, что эти запахи иногда заменяют знакомые запахи, «шифруются под них». Считает, что эти запахи следят за положением объектов. «Он контролирует мою кровать, не дает двигать её. Если я скриплю ей, он впивается в меня».
Больной Н.С. 34 лет.
Диагноз: суицидальный психоз.
В статусе: больной в возрасте 22 лет после бытовой ссоры заколол отца вилами во сне. Первый раз стационировался в областной поликлинике при тюрьме. Пытался повеситься в камере на веревке сделанной из робы. При первичном обращении вел себя апатично, вплоть до имбецильности. Причиной попытки суицида называет «невозможность дышать». После условно-досрочного освобождения вернулся в посёлок и пробовал наладить прежний быт. Попал к нам после того, как пытался повеситься в хлеву. Апатичность сменилась психотическо-эпилептичными припадками. Успокаиваясь, высказывает мысль о том, что воздух «слипся как отец», в свою очередь отец «не умер, а перемещается в воздухе и специально забивается в горло тем, кто его видит». В обычном состоянии такие мысли отвергает, при этом не высказывает особых сожалений об убийстве отца.
Больная Е.А. 37 лет.
Диагноз: параноидный бред.
В статусе: Больная отличается болезненной скромностью, очень неуверенно формулирует мысли. При физической усталости начинает ощущать движение собственной плоти. Это движение больная персонифицирует и называет «цветом», так как ей кажется, что в темноте движущаяся плоть отсвечивает из под кожи разнообразными оттенками. Данные бредовые ощущения мешают больной отдыхать, так как ей кажется, что «цвет» может прорваться сквозь кожу и опустошить тело.
Больной Н. 42 года.
Диагноз: отравление НИУИФ-100 (тиофос).
В статусе: Производил дезинфекцию вредителей у себя в саду, решил попробовать выпить раствор тиофоса, не в суицидальных целях, а как способ избавиться от похмелья. После амбулаторного промывания попал к нам с жалобами на галлюцинации. Больному кажется, будто бы в ритм пульсациям в голове в углу комнаты начинают «сгущаться» некие сущности, которые говорят с ним на неизвестном языке голосом «как из радиоприёмника». Чем сильнее больной сосредотачивается на этих сущностях, тем больше видит в них «каракатиц из другой луны», которые начинают принуждать его к тому, чтобы он «поел себя». В этот момент начинает видеть, как в воздухе рядом с его телом начинают появляться светящиеся контуры неких конусоподобных приборов. К видениям относится спокойно и скептично.
Больная О. 21 год.
Диагноз: врожденный аутизм.
В статусе: На людей без крайней необходимости не реагирует, полностью поглощена собой. Отзывается только на крики матери. Вместе с тем очень чувствительна к животным. По словам бабушки может целый день сидеть на жердях в курятнике или под крыльцом с собакой. На людях выражается только через рисунки. Графика больной грязная и параноидально плотная. Часто повторяющийся в рисунках сюжет: взявшиеся за руки безголовые антропоморфные существа, находящиеся в лесу или идущие в лес. Части тел этих существ диспропорциональны и часто алогично расположены.
Больной Г. 18 лет.
Диагноз: олигофрения.
В статусе: Добродушный и веселый, дома делает деревянные поделки, скворечники и кормушки. Стационируется при бессоннице, которая сильно выматывает больного. Проявляет большой интерес к земле. Часто на прогулках закапывает свои руки по локоть так, чтобы из-под земли торчали только пальцы. Долго так сидит, пристально наблюдая за медленными движениями пальцев. На вопрос о целесообразности данного действия отвечает, что так он может «трогать птиц». Касаемо смысла данного ритуала чаще всего отмахивается и смеётся. После долгих расспросов пояснил, что на птиц нельзя смотреть — глаза их «кусают», общаться с ними нужно только через «пыль».
Больной Г.Н. 57 лет.
Диагноз: рекуррентная шизофрения, шизофреноморфное расстройство.
В статусе: Наблюдается около 15-ти лет. Первый раз стационировался после того, как ночью убежал через форточку из дома, криками перебудив всех соседей. После он описывал, что проснулся от того, что из стен на него полез «гранит», который выползал из углов комнаты с «электрическим» звуком. Бегая у дома, больной кричал, что у ему в кости установили «углы», которые смотрят на него изнутри и «транслируют кишки на юпитер».
Больная З.Ф. 43 года.
Диагноз: травматическая болезнь.
В статусе: Несколько лет назад перенесла травму головы: в ходе семейной ссоры муж ударил лопатой по затылку. Мозжечковое повреждение. Наблюдаются признаки психической слепоты. Движения плохо скоординированы. Если просить произвести движения правой рукой — сначала начинает двигать всем телом, пока не поймет, какая из частей тела рука и какая из рук правая. Так же с другими частями тела. При длительной нагрузке жалуется на фантомные боли. При обследовании выясняется, что больная чувствует у себя наличие неких «конечностей», которые при усталости начинает «ломить». Не может точно описать какого рода это конечности (судя по всему хватательные) и их количество. При указании на то, что дополнительных органов у нее нет, смущается. Говорит, что конечности ей помогают.
Диагноз: Фантосмия, шизофрения.
В статусе: Больная попала к нам после реанимации. Пыталась сжечь свой дом, пострадала при пожаре. Характер сложный, на вопросы отвечает язвительно, часто принципиально игнорирует окружающих. В связи с повреждением парагиппокампальной извилины, стала испытывать обонятельные галлюцинации. Еще в реанимации жаловалась на резкие запахи, природу которых не могла описать. Уже наблюдаясь у нас, стала описывать эти запахи субъектно, используя при этом не качественные характеристики, а скорее поведенческие: «он пахнет оскорблениями» или «воняет слабостью». Позже запахи оформились в конкретные личности, которые больная способна различать и называть поименно. Отмечает, что эти запахи иногда заменяют знакомые запахи, «шифруются под них». Считает, что эти запахи следят за положением объектов. «Он контролирует мою кровать, не дает двигать её. Если я скриплю ей, он впивается в меня».
Больной Н.С. 34 лет.
Диагноз: суицидальный психоз.
В статусе: больной в возрасте 22 лет после бытовой ссоры заколол отца вилами во сне. Первый раз стационировался в областной поликлинике при тюрьме. Пытался повеситься в камере на веревке сделанной из робы. При первичном обращении вел себя апатично, вплоть до имбецильности. Причиной попытки суицида называет «невозможность дышать». После условно-досрочного освобождения вернулся в посёлок и пробовал наладить прежний быт. Попал к нам после того, как пытался повеситься в хлеву. Апатичность сменилась психотическо-эпилептичными припадками. Успокаиваясь, высказывает мысль о том, что воздух «слипся как отец», в свою очередь отец «не умер, а перемещается в воздухе и специально забивается в горло тем, кто его видит». В обычном состоянии такие мысли отвергает, при этом не высказывает особых сожалений об убийстве отца.
Больная Е.А. 37 лет.
Диагноз: параноидный бред.
В статусе: Больная отличается болезненной скромностью, очень неуверенно формулирует мысли. При физической усталости начинает ощущать движение собственной плоти. Это движение больная персонифицирует и называет «цветом», так как ей кажется, что в темноте движущаяся плоть отсвечивает из под кожи разнообразными оттенками. Данные бредовые ощущения мешают больной отдыхать, так как ей кажется, что «цвет» может прорваться сквозь кожу и опустошить тело.
Больной Н. 42 года.
Диагноз: отравление НИУИФ-100 (тиофос).
В статусе: Производил дезинфекцию вредителей у себя в саду, решил попробовать выпить раствор тиофоса, не в суицидальных целях, а как способ избавиться от похмелья. После амбулаторного промывания попал к нам с жалобами на галлюцинации. Больному кажется, будто бы в ритм пульсациям в голове в углу комнаты начинают «сгущаться» некие сущности, которые говорят с ним на неизвестном языке голосом «как из радиоприёмника». Чем сильнее больной сосредотачивается на этих сущностях, тем больше видит в них «каракатиц из другой луны», которые начинают принуждать его к тому, чтобы он «поел себя». В этот момент начинает видеть, как в воздухе рядом с его телом начинают появляться светящиеся контуры неких конусоподобных приборов. К видениям относится спокойно и скептично.
Больная О. 21 год.
Диагноз: врожденный аутизм.
В статусе: На людей без крайней необходимости не реагирует, полностью поглощена собой. Отзывается только на крики матери. Вместе с тем очень чувствительна к животным. По словам бабушки может целый день сидеть на жердях в курятнике или под крыльцом с собакой. На людях выражается только через рисунки. Графика больной грязная и параноидально плотная. Часто повторяющийся в рисунках сюжет: взявшиеся за руки безголовые антропоморфные существа, находящиеся в лесу или идущие в лес. Части тел этих существ диспропорциональны и часто алогично расположены.
Больной Г. 18 лет.
Диагноз: олигофрения.
В статусе: Добродушный и веселый, дома делает деревянные поделки, скворечники и кормушки. Стационируется при бессоннице, которая сильно выматывает больного. Проявляет большой интерес к земле. Часто на прогулках закапывает свои руки по локоть так, чтобы из-под земли торчали только пальцы. Долго так сидит, пристально наблюдая за медленными движениями пальцев. На вопрос о целесообразности данного действия отвечает, что так он может «трогать птиц». Касаемо смысла данного ритуала чаще всего отмахивается и смеётся. После долгих расспросов пояснил, что на птиц нельзя смотреть — глаза их «кусают», общаться с ними нужно только через «пыль».
Больной Г.Н. 57 лет.
Диагноз: рекуррентная шизофрения, шизофреноморфное расстройство.
В статусе: Наблюдается около 15-ти лет. Первый раз стационировался после того, как ночью убежал через форточку из дома, криками перебудив всех соседей. После он описывал, что проснулся от того, что из стен на него полез «гранит», который выползал из углов комнаты с «электрическим» звуком. Бегая у дома, больной кричал, что у ему в кости установили «углы», которые смотрят на него изнутри и «транслируют кишки на юпитер».
Больная З.Ф. 43 года.
Диагноз: травматическая болезнь.
В статусе: Несколько лет назад перенесла травму головы: в ходе семейной ссоры муж ударил лопатой по затылку. Мозжечковое повреждение. Наблюдаются признаки психической слепоты. Движения плохо скоординированы. Если просить произвести движения правой рукой — сначала начинает двигать всем телом, пока не поймет, какая из частей тела рука и какая из рук правая. Так же с другими частями тела. При длительной нагрузке жалуется на фантомные боли. При обследовании выясняется, что больная чувствует у себя наличие неких «конечностей», которые при усталости начинает «ломить». Не может точно описать какого рода это конечности (судя по всему хватательные) и их количество. При указании на то, что дополнительных органов у нее нет, смущается. Говорит, что конечности ей помогают.
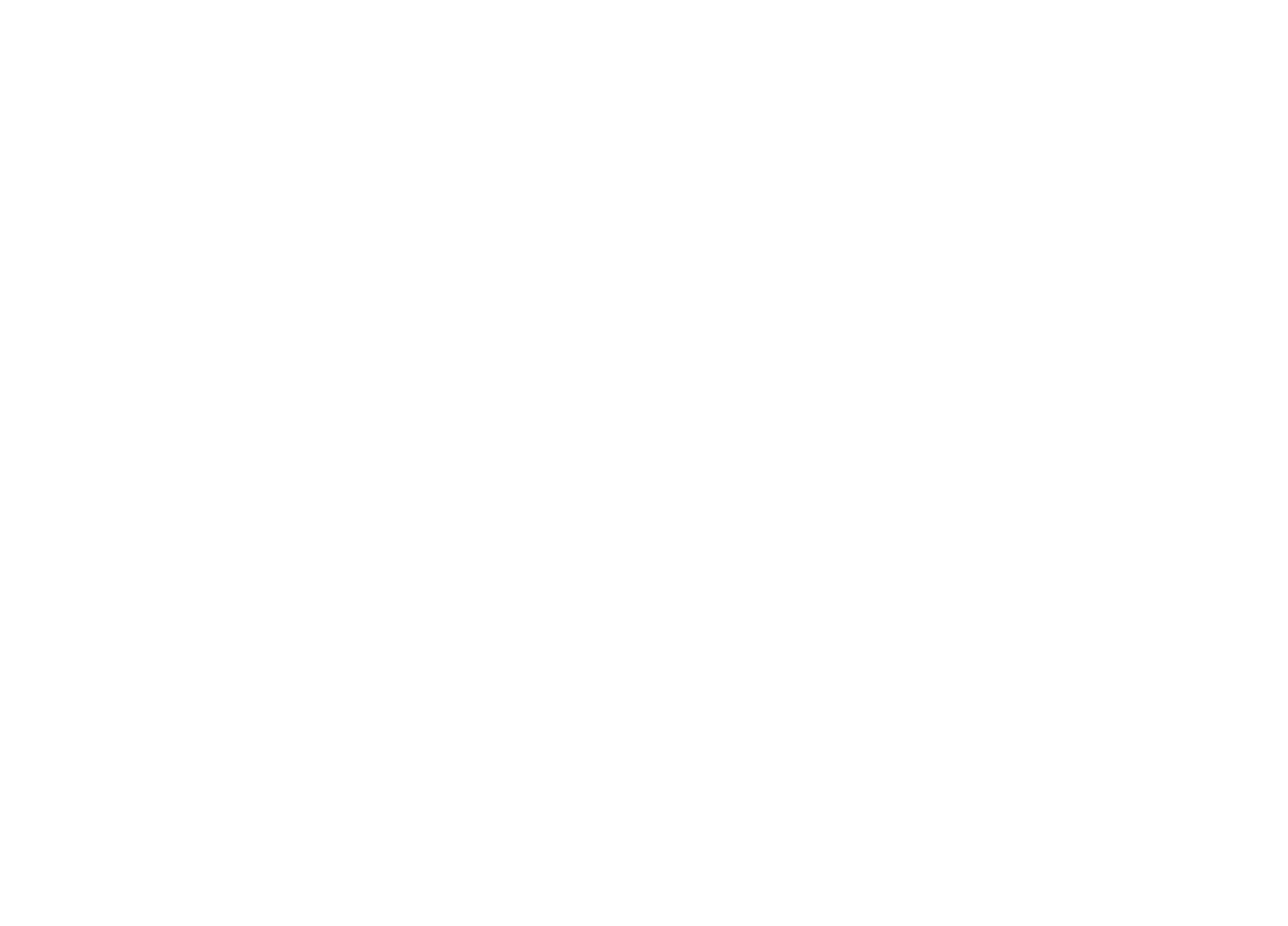
Дневники:
<…> Они проваливаются в безземелье. Будто тела оказываются в бульоне вне сил тяготения, в котором особые правила роста и творчества <…> Здесь не работают условия, лежащие в основании любой разметки, не работает историческая динамика, дающая место памяти. Это безземелье — не протяженность, оно не пространственно. На сигналы и схемы наших земель оно не отвечает, а все, что мы называем ответами появляется из чего-то доземного <…>
Наблюдал сегодня за припадком Б. (39 лет). Он всю жизнь живет в Северном, я знаю его и его семью очень давно (вполне может быть, что в каком-то поколении мы родственники). Я знаю его как конкретного человека, не важно хорошего или плохого, и вижу его неповиновение увечью. Слушал витиеватый парафренический бред из его уст и в какой-то момент в очередной раз поймал себя на мысли, что слушаю не Б., а бред. Как будто звук, в котором бред существовал на тот момент, — это зверь, никакого отношения не имеющий к Б. С другой стороны, сам Б. в ремиссиях настолько полноценен в своем отказе от болезни, что воспринимает обострения как фантомный орган не на своем теле. Тут не противопоставление здорового ума и условной бездумной болезни. Не одно определяющее себя и выходящее из другого. Мы тут сидим и видим эти припадки. Пьем чай, пересказываем что слышали, не глядя выписываем рецепты. А сами эти припадки что видят и что пересказывают друг другу? Эти звери <…> они живут в своих норах, ничего не подозревая, не зная, что их по рождению лишают способности говорить, делают объектом наблюдения и сразу пытаются истребить. Звери исключают из своего опыта больного, но мы вынуждены суммировать одно с другим. Однако и разум не замещается зверями, он остается полноценным в своем неповиновении и никуда не девается <…>
Наблюдал сегодня за припадком Б. (39 лет). Он всю жизнь живет в Северном, я знаю его и его семью очень давно (вполне может быть, что в каком-то поколении мы родственники). Я знаю его как конкретного человека, не важно хорошего или плохого, и вижу его неповиновение увечью. Слушал витиеватый парафренический бред из его уст и в какой-то момент в очередной раз поймал себя на мысли, что слушаю не Б., а бред. Как будто звук, в котором бред существовал на тот момент, — это зверь, никакого отношения не имеющий к Б. С другой стороны, сам Б. в ремиссиях настолько полноценен в своем отказе от болезни, что воспринимает обострения как фантомный орган не на своем теле. Тут не противопоставление здорового ума и условной бездумной болезни. Не одно определяющее себя и выходящее из другого. Мы тут сидим и видим эти припадки. Пьем чай, пересказываем что слышали, не глядя выписываем рецепты. А сами эти припадки что видят и что пересказывают друг другу? Эти звери <…> они живут в своих норах, ничего не подозревая, не зная, что их по рождению лишают способности говорить, делают объектом наблюдения и сразу пытаются истребить. Звери исключают из своего опыта больного, но мы вынуждены суммировать одно с другим. Однако и разум не замещается зверями, он остается полноценным в своем неповиновении и никуда не девается <…>
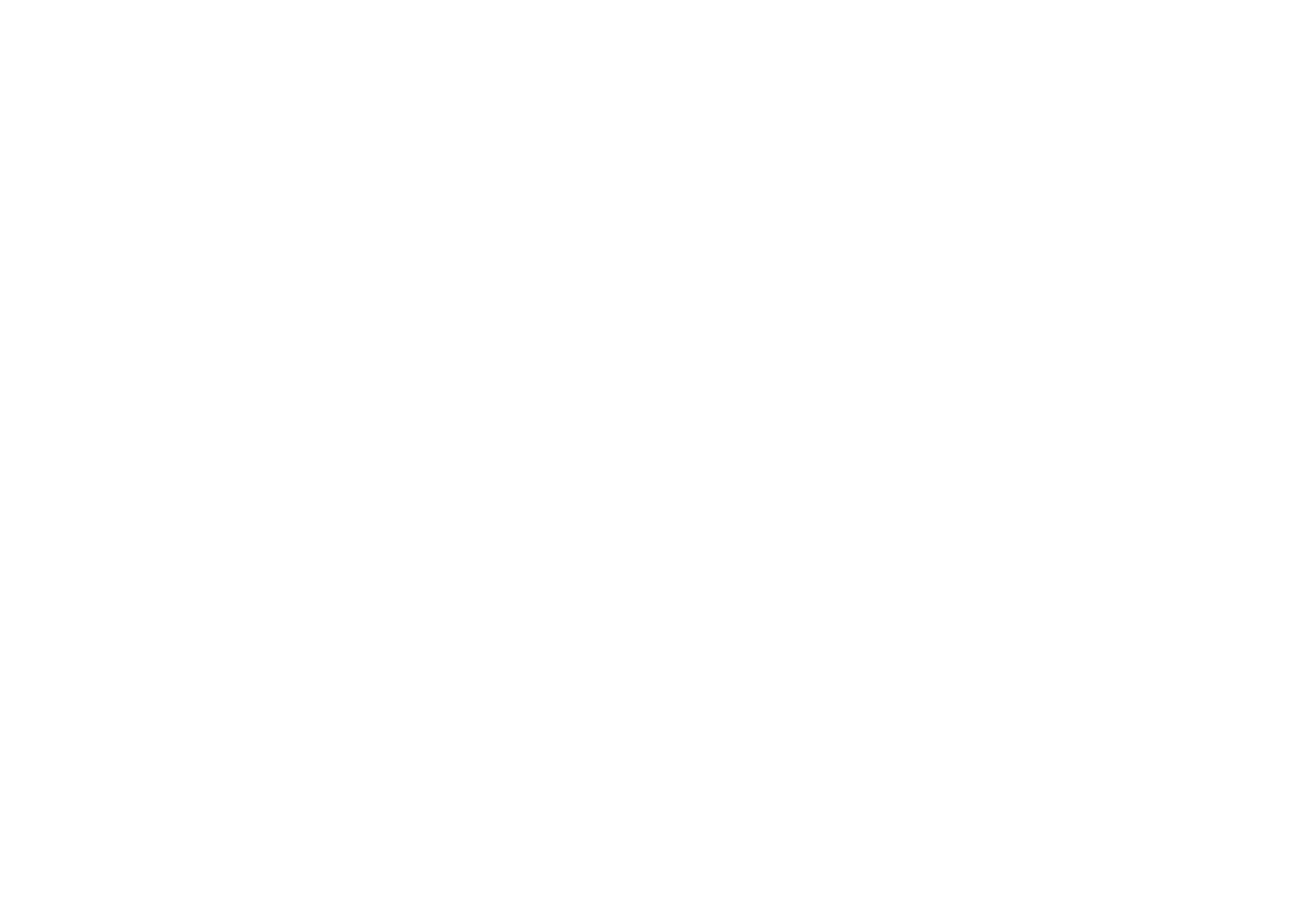
<…> Ощущаемо ли тело бреда им самим, если не брать в расчет научное внешнее его сведение к вещи? <…> рассыпается на то, как мы живем и на то, как живет он. Мы сегодня весь день собирали бруснику, набрали целую большую кадку. Прогуливаясь по лесу нередко застаешь себя врасплох, на секунду задаешься вопросом «Не потерялся ли я?» И вот в этом промежутке, внутри этого сиюминутного короткого ощущения ты понимаешь, что, скорее, ты сам никуда никогда не заходил. Теряться нечему. <…> Они могли бы жить задом наперед по отношению к нам. Каково бы было испражняющемуся человеку осознать, что все наоборот, и это некая масса выпрыгивает из дырки, забирается в анус, а там подобно бабочке преображается во что-то, выползающее на ложечке изо рта.
Вполне может статься, что звуковая волна, доступная слуху, — это лишь «видимая» часть бреда, его «плодовое тело», как у грибов. Но я бы не стал считать, что «мицелий» бреда находится в больном (или «за» ним), как подсознание. <…> звериное происходит из других слоёв, наших знаний не хватит на то, чтобы говорить о зверях без тел. <…> Мне очень не по себе. Ведь тогда получается, что эти звери могут обитать и в камнях, и в воде. В конце концов, бред полуденной жары или бред зимнего мороза. Бредят ли звезды и далекие планеты?
<…> Наш директор снова приставал к медсестрам. Я не могу этого видеть. Этой мерзостью пропитывается работа. Стараюсь скрывать своих от его присутствия. Я не переживаю за их состояние, конкретные личности со своими паспортами и прописками пускай хоть живут с ним (иные очень похожи на него в поведении). <…> что растения передают свою боль собратьям, вынуждая их подготавливать свои стебли к боли. <…> У зверей неразличимо восприятие и движение. Наш мир невидим для зверей, они живут в рассеивании своих стай.
Вполне может статься, что звуковая волна, доступная слуху, — это лишь «видимая» часть бреда, его «плодовое тело», как у грибов. Но я бы не стал считать, что «мицелий» бреда находится в больном (или «за» ним), как подсознание. <…> звериное происходит из других слоёв, наших знаний не хватит на то, чтобы говорить о зверях без тел. <…> Мне очень не по себе. Ведь тогда получается, что эти звери могут обитать и в камнях, и в воде. В конце концов, бред полуденной жары или бред зимнего мороза. Бредят ли звезды и далекие планеты?
<…> Наш директор снова приставал к медсестрам. Я не могу этого видеть. Этой мерзостью пропитывается работа. Стараюсь скрывать своих от его присутствия. Я не переживаю за их состояние, конкретные личности со своими паспортами и прописками пускай хоть живут с ним (иные очень похожи на него в поведении). <…> что растения передают свою боль собратьям, вынуждая их подготавливать свои стебли к боли. <…> У зверей неразличимо восприятие и движение. Наш мир невидим для зверей, они живут в рассеивании своих стай.
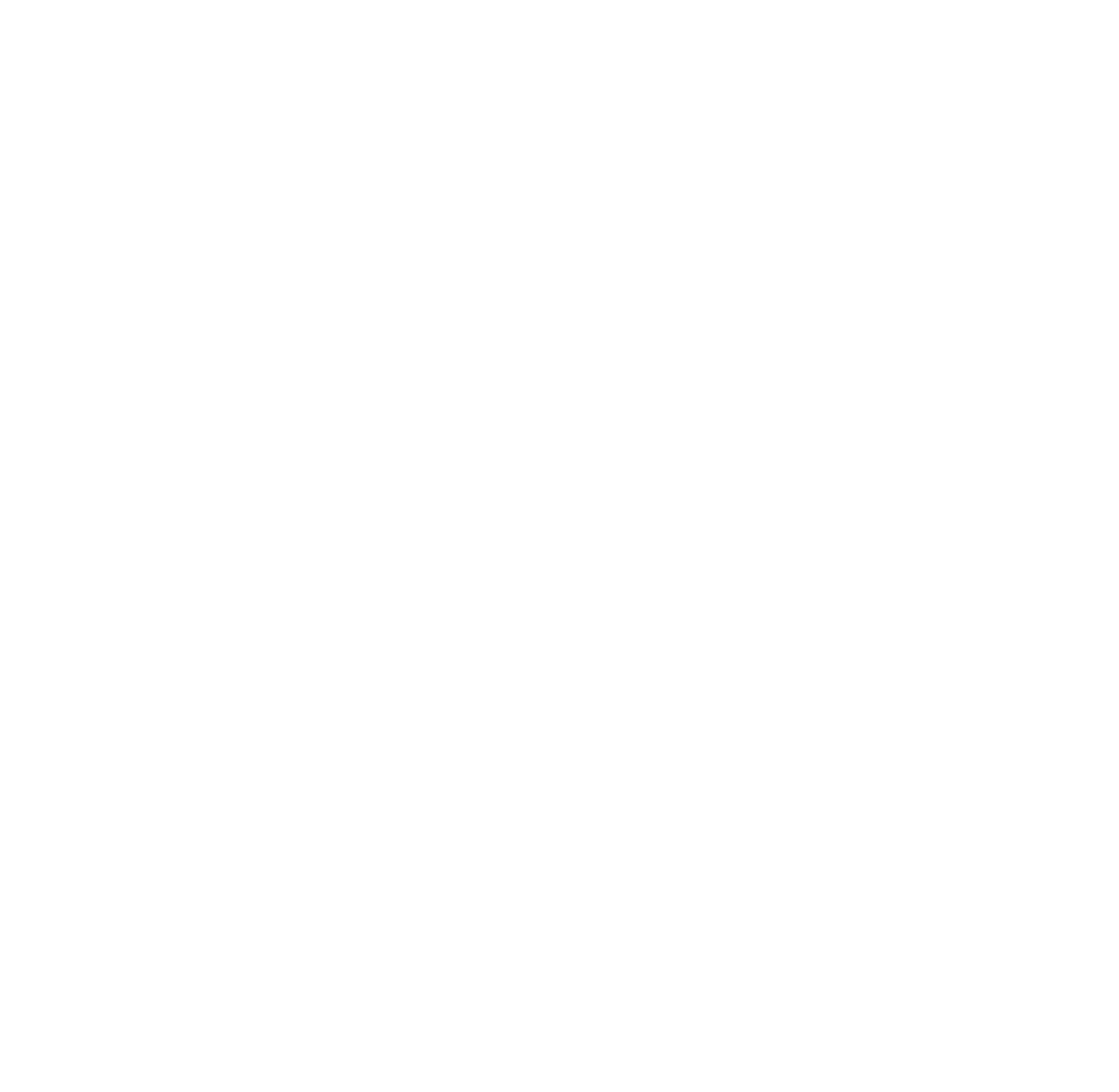
<…> что способ, которым звери сообщаются между собой и внутри своей стаи должен быть подобен развивающейся на ветру ткани. Открепленная от организма поверхность тела, как если бы можно было представить себе содранную кожу, живущую своей жизнью. Наитончайшая вуаль, не разворачивающая перед собой объекты, не разделяющая опыт и мир. <…> также означает, что ткань зверя не должна ощущать свои края, а края необходимо не должны быть определенными и предопределенными. Но это еще означает безразличие между индивидуальным и коллективным. <…> Представляю себе сошедшего с ума портного, который стал бы сшивать лоскуты ткани не край к краю, а прорезать ткань, продевать в отверстие другую ткань, стал бы сшивать ткани одну в другой, стал бы край пришивать к плоскости ткани, или продевать ткань в саму себя, а после пришивать всю плоскость к минимальной поверхности <…>
Большая проблема состоит в том, что мы вынуждены воспринимать в рамках согласованности ощущений. Возможно, это наше проклятье. Пару минут назад я выпил кружку свежего парного молока. Нет ничего конфликтного в этом опыте: запах, вкус, плотность, температура, цвет, происхождение и т.д. полностью согласованы между собой с моей памятью о молоке и его качествах. Далее: я знаю откуда это молоко, знаю конкретную корову и условия ее жизни, её хозяев и сородичей. Каким бы виделся мир, где каждое восприятие дробилось бы на неисчислимое количество независимых и противоположных ощущений? <…> ничего не совпадало, если бы не было спасительной памяти, которая подтверждает и узаконивает опыт, если бы сам опыт исключал представление о знакомом и каждое новое ощущение было бы целиком обособленным и инородным?
Я долгое время пытался сформулировать свое отношение к запахам в интернате. Пряные, кислые, сладкие, скрываемые и непризнаваемые в быту — здесь они раскрываются и смешиваются в полную силу, подобно буйству благоухания на летнем лугу. <…> пóшло думать, что запах является вторичным качеством или продуктом производства. Хотя я одно время имел неосторожность думать, что запах «испускается» забродившим разумом, будто бы это единственный способ ему что-либо в таких условиях выразить. <…> вроде органа размножения. Вполне регулярны случаи, когда общеразделяемый между людьми запах нечистот становится чем-то вроде залога семейной и домашней интимности. <…> Запах касается звука или звук сигнализирует о периоде размножения, который осуществляется через запахи. Это также привело меня к мысли о том, что зверям неведомо видовое различие. Как если бы был снят главный парадокс жизни, которую мы можем наблюдать: при всем многообразии линий, в которых жизнь проявляется, и общей аффилиативности, обусловленной планетарными ограничениями, мы не можем представить себе тотального смешения всего и вся, а также не способны помыслить результаты этого смешения иначе, нежели в форме появления незаконнорожденного уродства.
Большая проблема состоит в том, что мы вынуждены воспринимать в рамках согласованности ощущений. Возможно, это наше проклятье. Пару минут назад я выпил кружку свежего парного молока. Нет ничего конфликтного в этом опыте: запах, вкус, плотность, температура, цвет, происхождение и т.д. полностью согласованы между собой с моей памятью о молоке и его качествах. Далее: я знаю откуда это молоко, знаю конкретную корову и условия ее жизни, её хозяев и сородичей. Каким бы виделся мир, где каждое восприятие дробилось бы на неисчислимое количество независимых и противоположных ощущений? <…> ничего не совпадало, если бы не было спасительной памяти, которая подтверждает и узаконивает опыт, если бы сам опыт исключал представление о знакомом и каждое новое ощущение было бы целиком обособленным и инородным?
Я долгое время пытался сформулировать свое отношение к запахам в интернате. Пряные, кислые, сладкие, скрываемые и непризнаваемые в быту — здесь они раскрываются и смешиваются в полную силу, подобно буйству благоухания на летнем лугу. <…> пóшло думать, что запах является вторичным качеством или продуктом производства. Хотя я одно время имел неосторожность думать, что запах «испускается» забродившим разумом, будто бы это единственный способ ему что-либо в таких условиях выразить. <…> вроде органа размножения. Вполне регулярны случаи, когда общеразделяемый между людьми запах нечистот становится чем-то вроде залога семейной и домашней интимности. <…> Запах касается звука или звук сигнализирует о периоде размножения, который осуществляется через запахи. Это также привело меня к мысли о том, что зверям неведомо видовое различие. Как если бы был снят главный парадокс жизни, которую мы можем наблюдать: при всем многообразии линий, в которых жизнь проявляется, и общей аффилиативности, обусловленной планетарными ограничениями, мы не можем представить себе тотального смешения всего и вся, а также не способны помыслить результаты этого смешения иначе, нежели в форме появления незаконнорожденного уродства.
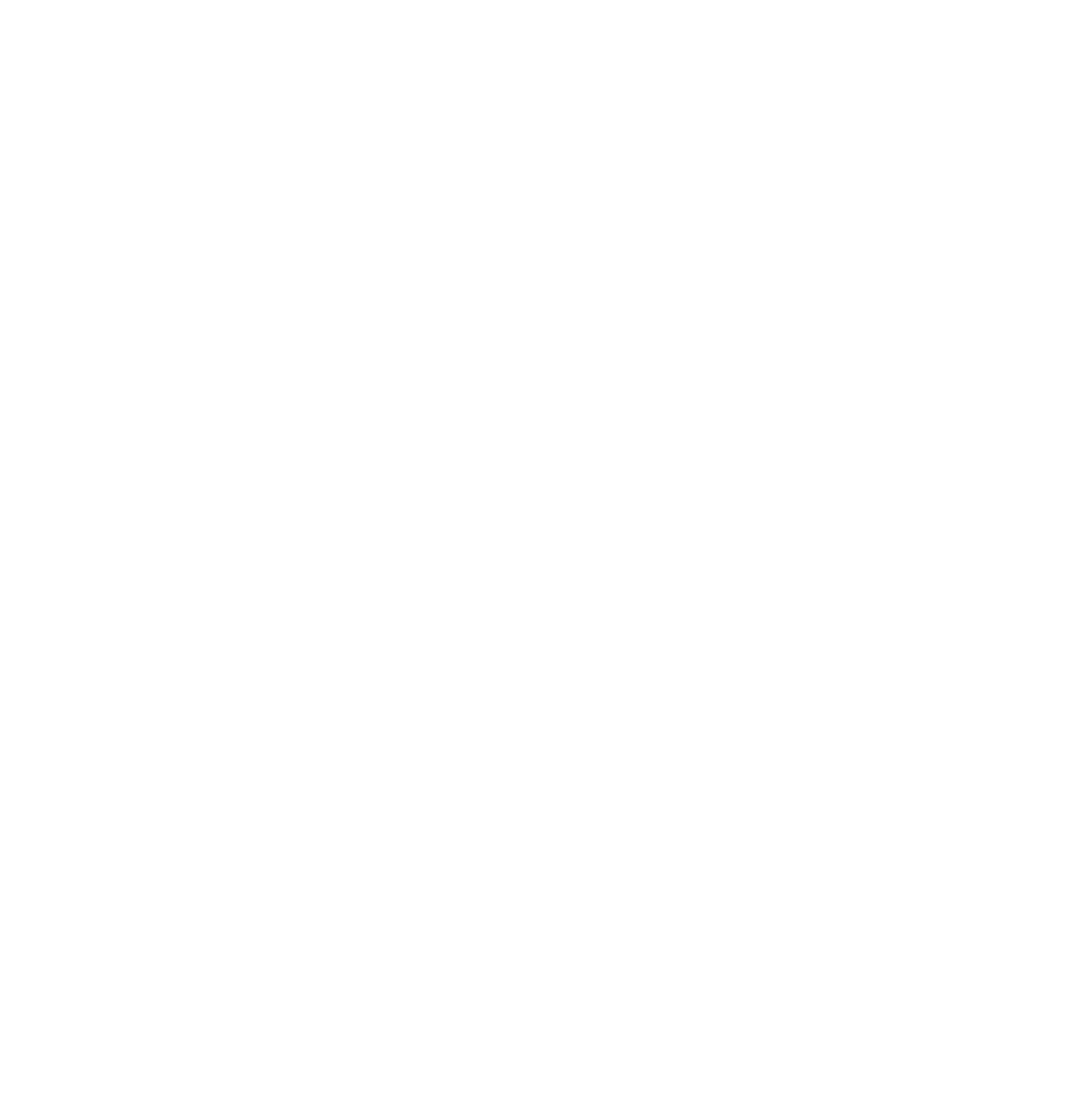
<…> Звериные ткани обволакивают не видимые качества (тогда они целиком пребывали бы в нашем мире), но некоторые соединительные мускулы реальности, предшествующие и осуществляющие само видимое. Из этих касаний, подобно эхолокации наоборот, вырисовываются (то есть создаются) вариации доземного мира. Но тут важно отречься от мысли о том, что звери взаимодействуют внутри одного целостного мира, пусть и доземного. Как любая тряпка есть по сути хитрое сплетение нитей, так и звериная ткань — это хитрое сплетение множества волн. Любое сближение двух частиц, вплоть до рассеивания в одной, взрывается уникальной эхолокацией на мгновение нарисованного безземелья.
<…> Мы совершенно не научены заселять и заселяться. В интернате сейчас все переболели простудой. Немного грустно находиться среди «перенаселенных» людей, наблюдая эту беспомощность каждого конкретного индивидуального разума стать общежитием. Мы же умеем лишь вторгаться, нам неведома легкость, с которой болезнь заселяется в тело, она ничего не знает об организме. Собственный язык гораздо легче своего носителя, язык свободно поселяется в других. <…> материя заселяется в зверях, они будто бы её отделяемая способность. Как если представить, что, скажем, нос мог бы отделиться от меня в своей функции воспринимать запахи, став бы как самостоятельным воспринимающим субъектом, так и остался бы источником знаний о запахах для меня. Отделяемая способность материи без формы и тела <…>
Меня восхищают некоторые жители нашего поселка, которые отказываются передавать под надзор своих родственников. Моя соседка, тётя Ира, всю жизнь живет с сыном-олигофреном. Временами у него случаются припадки, он прикусывает верхнюю губу, иногда до крови, выкатывает глаза и бросается на людей. Несмотря на то, что это его агрессивное состояние случается все чаще, ни его мать, ни соседи (в том числе я) не делают ничего для того, чтобы изолировать его. Хотя, все это понимают, достаточно одной жалобы. Он часто уходит в лес со своими. Собирают ягоды, грибы. Несколько раз я ходил вместе с ними. Удивительно, что в разговорах у них не возникает вопросов о месте существования. Живущий в деревне нисколько не свободнее тех, кто в интернате, и наоборот. Для зверей просто нет человеческих размерностей исключения <…>
<…> Мы совершенно не научены заселять и заселяться. В интернате сейчас все переболели простудой. Немного грустно находиться среди «перенаселенных» людей, наблюдая эту беспомощность каждого конкретного индивидуального разума стать общежитием. Мы же умеем лишь вторгаться, нам неведома легкость, с которой болезнь заселяется в тело, она ничего не знает об организме. Собственный язык гораздо легче своего носителя, язык свободно поселяется в других. <…> материя заселяется в зверях, они будто бы её отделяемая способность. Как если представить, что, скажем, нос мог бы отделиться от меня в своей функции воспринимать запахи, став бы как самостоятельным воспринимающим субъектом, так и остался бы источником знаний о запахах для меня. Отделяемая способность материи без формы и тела <…>
Меня восхищают некоторые жители нашего поселка, которые отказываются передавать под надзор своих родственников. Моя соседка, тётя Ира, всю жизнь живет с сыном-олигофреном. Временами у него случаются припадки, он прикусывает верхнюю губу, иногда до крови, выкатывает глаза и бросается на людей. Несмотря на то, что это его агрессивное состояние случается все чаще, ни его мать, ни соседи (в том числе я) не делают ничего для того, чтобы изолировать его. Хотя, все это понимают, достаточно одной жалобы. Он часто уходит в лес со своими. Собирают ягоды, грибы. Несколько раз я ходил вместе с ними. Удивительно, что в разговорах у них не возникает вопросов о месте существования. Живущий в деревне нисколько не свободнее тех, кто в интернате, и наоборот. Для зверей просто нет человеческих размерностей исключения <…>
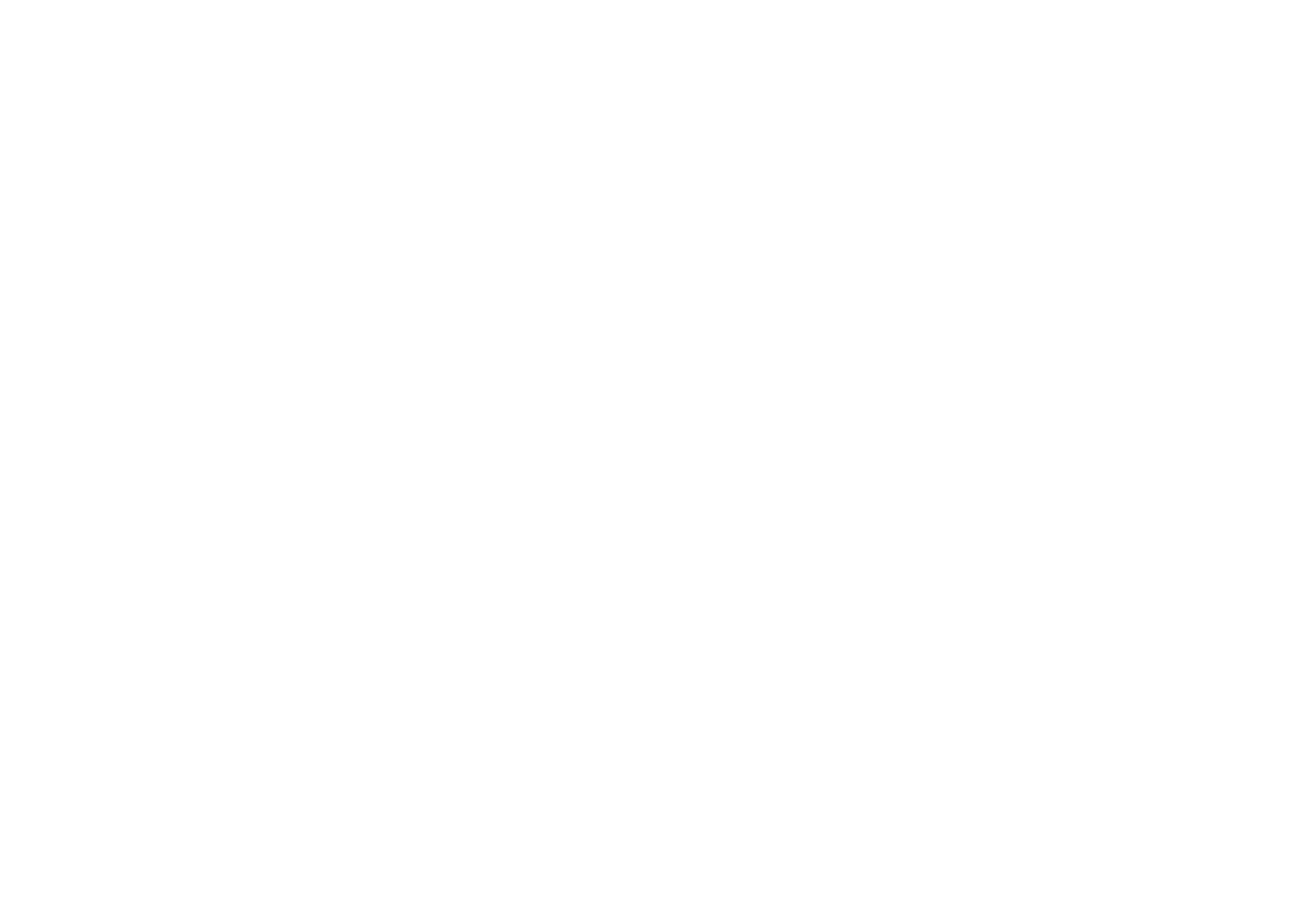
Видел сон. Хорошо запомнил его потому, что снился он под утро, а меня резко разбудили, и он ярко запечатлелся, стоял в глазах, звенел в ушах, наполнял ноздри. Обычно мне трудно вспоминать и пересказывать — даже самому себе — свои сны. Долгое время я думал, что причина в том, что <…> Мне снился мой день рождения, но почему-то я справлял его в Горьком, готовясь к отъезду не в поселок, а «туда, не знаю, куда», в какое-то совсем новое место. Среди гостей не было никого из знакомых, одни чужаки. Они приходили, садились за стол, говорили что-то отстраненное, но вежливое, стараясь сделать мне приятное. Вежливые чужаки. Меня все это погружало в тоску. Прямо во сне я начал говорить с собой, удивляясь тому, как можно быть чужими друг другу и при этом быть вежливыми, признавшись себе, в итоге, что вежливость это и есть признак чуждости. Я выругался про себя, чтобы не быть с собой вежливым. Стало душно, я вышел. Оказалось, что день рождения я справлял в мясном магазине, который как-то стал моим домом. Я ухожу во дворы, в которых сразу становится темно. У одного из подъездов замечаю похоронную процессию: толпятся люди, из подъезда выносят изумрудно-зеленую крышку гроба. Я подхожу к толпе и сразу переношусь в квартиру умершего; точнее, сначала — в длинный коридор, в котором как будто наизнанку идут похороны, то есть все движется вспять. В похоронах, к моему удивлению, как неотъемлемая их часть, как какие-то внутренние органы, участвует милиция, оттесняющая людей в комнаты, расположенные вдоль коридора. Оттеснили и меня, я так и не увидел мертвого тела в гробу. Я попадаю в какую-то мастерскую, откуда слышу панихиду, или, лучше сказать, похоронное выступление попа. Сначала только слышу его — и узнаю в его выступлении слова песни, которую я знаю, блатной песни про охоту, про борьбу охотника с кабаном. Поп внезапно появляется в комнате, куда меня втолкнули, поет песню, глядя в Псалтирь и делая театральные движения, изображающие борьбу со Зверем. Он поет, точнее ритмически кряхтит: «Тара-пара-та-пара-та хер собачий тыры-ты-пыри-ты-ры-пы не пропадешь!». Я запомнил эти «слова» детально, я четко мог их воспроизвести после пробуждения, потому что я запомнил их как песню, которую можно петь. Тут самое интересное: во сне мне было понятно, о чем эта песня, о чем эти «слова», но когда я проснулся, а эти «слова» все еще звучали как надоедливый мотив у меня в голове, я перестал их понимать, они перестали быть словами, хотя я слышал то же самое, что и во сне. Я делаю вывод о том, что во сне мы никогда не слышим слов, которые складываются в понятные для бодрствующего сознания предложения. Во сне есть только бред, только телесное кряхтение, только какое-то бульканье мышечных тканей. Какая-то конвульсивная масса, которая «понятна» гимнастически, в движении, как вода, которую нужно «понять» чтобы научиться в ней плавать. Она, эта масса, льется нам прямо в мозг, мы «понимаем» ее движение как желудок «понимает» пищу. Короче, любая попытка передать «слова», которые звучат во сне, обречена. Никаких слов там нет. И те вежливые слова моих гостей в мясном магазине — не исключение. Я не запомнил их потому, что в них не было музыки. В руках у попа был лом, он ударяет им об пол, убивая невидимого кабана, глядит на меня исподлобья, с прищуром, с улыбкой. А я, глядя одним глазом на него, другим глазом замечаю на полу комнаты запревший журнал, от которого в момент последнего движения попа отваливается обложка, а на первой странице виднеется рисунок с изображением мускулистого атлета, копьем пронзающего кабана. В журнале — слова песни, которую поет поп. Я поднимаю его с пола, сую за пазуху. В комнате в этот момент — с лестницы, которая приставлена к стене — падает фотография, на которой запечатлена смазанная фигура человека, падающего с этой лестницы. Я понимаю, что человек на фотографии — это мертвец, которого хоронят. Из коридора доносится гул: он умер от падения на листовки <…>
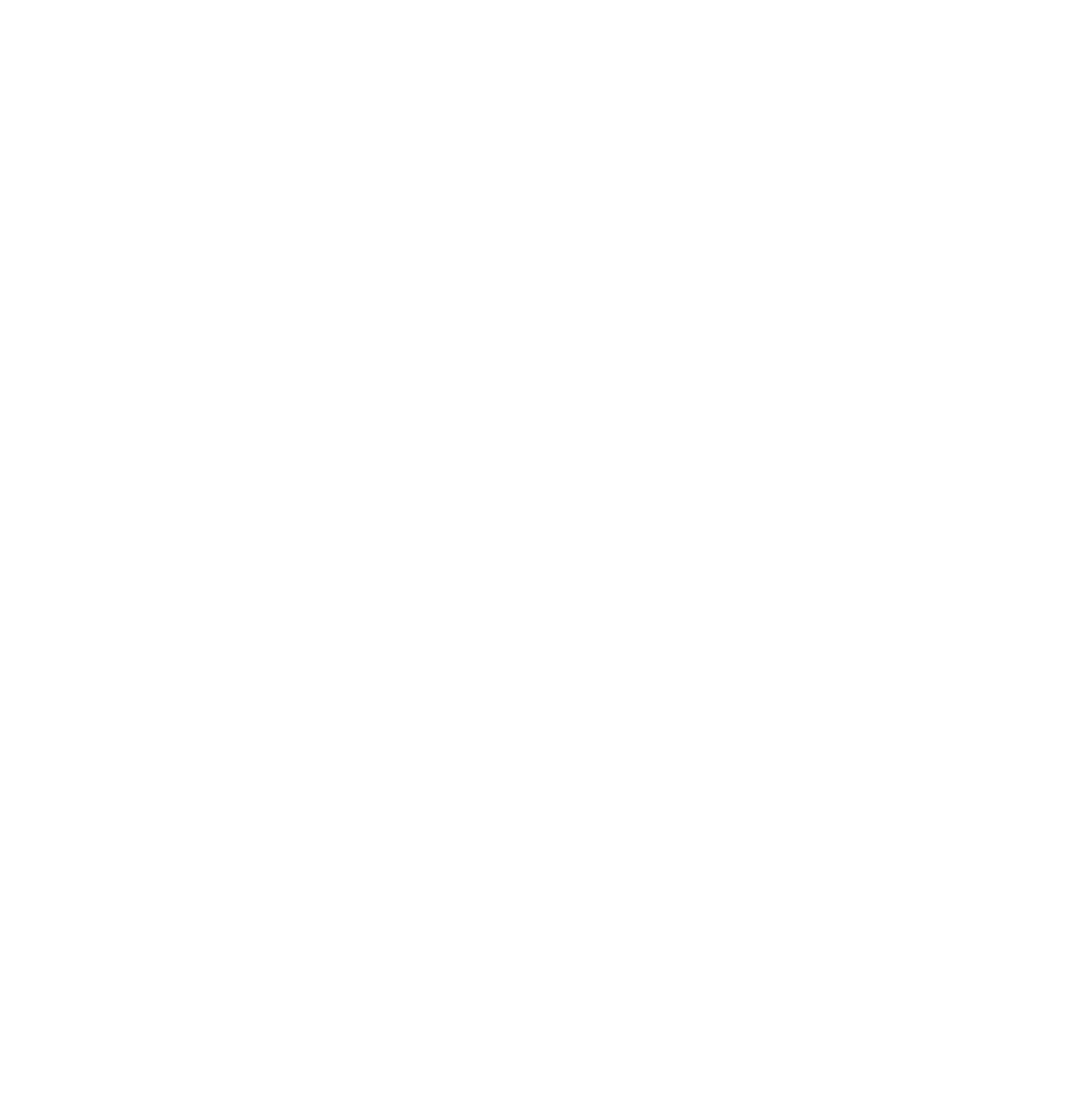
Составители: Иван Спицын, Евгений Кучинов

