
//Жильбер Симондон / 8 сентября 1953 года, Сент-Этьен
Впечатление неограниченной, безоговорочно подлинной реальности света. Не вещи как субстанция — теряют и вновь обретают реальность вихри отношений: путешествия, свет, солнце; наружность камней, а не их глубинная вещность. Зерно вещей и не вещей.
//Иоганн Теснериус / О природе магнитных явлений
Возьми вместилище из железа, вроде вогнутых стёкол, снаружи украшенное выгравированными узорами не только ради красоты, но также ради легкости, ибо чем легче сосуд, тем легче его можно привести в движение. Но он не должен быть при этом прозрачным, так чтобы можно было бы видеть заключенную в нем тайну.
//editorial core
Денис Шалагинов
Иван Спицын
Евгений Кучинов
Сергей Кочкуров
//mutual aid sq
Владислав Жигалов, Алексей Конаков, Дмитрий Кралечкин,
Егор Гализдра, Иван Аксёнов, Александр Ветушинский, Иван Напреенко, Майкл Мардер, Хилан Бенсусан, Радек Пшедпельский, Арсений Жиляев, Георгий Федоровский, Мэттью Сегалл, Бен Вудард, Тим Ингольд,
Маяна Насыбуллова, Ярослав Михайлов, Алексей Дорофеев, Кендзи Сиратори, Юк Хуэй, Джесси Коэн, Никита Сазонов, Катя Никитина, Аня Родионова, Коля Смирнов, Антон Крафтский, Никита Архипов, Тим Элмо Фейтен, Аня Горская, Джейкоб Блюменфельд, Саша Скалин, Эдвард Сержан, Кирилл Роженцов, Илья Поляков, Артём Морозов,
Дмитрий Скородумов, Илья Гурьянов и другие.
TG / INST / FB / VK
Впечатление неограниченной, безоговорочно подлинной реальности света. Не вещи как субстанция — теряют и вновь обретают реальность вихри отношений: путешествия, свет, солнце; наружность камней, а не их глубинная вещность. Зерно вещей и не вещей.
//Иоганн Теснериус / О природе магнитных явлений
Возьми вместилище из железа, вроде вогнутых стёкол, снаружи украшенное выгравированными узорами не только ради красоты, но также ради легкости, ибо чем легче сосуд, тем легче его можно привести в движение. Но он не должен быть при этом прозрачным, так чтобы можно было бы видеть заключенную в нем тайну.
//editorial core
Денис Шалагинов
Иван Спицын
Евгений Кучинов
Сергей Кочкуров
//mutual aid sq
Владислав Жигалов, Алексей Конаков, Дмитрий Кралечкин,
Егор Гализдра, Иван Аксёнов, Александр Ветушинский, Иван Напреенко, Майкл Мардер, Хилан Бенсусан, Радек Пшедпельский, Арсений Жиляев, Георгий Федоровский, Мэттью Сегалл, Бен Вудард, Тим Ингольд,
Маяна Насыбуллова, Ярослав Михайлов, Алексей Дорофеев, Кендзи Сиратори, Юк Хуэй, Джесси Коэн, Никита Сазонов, Катя Никитина, Аня Родионова, Коля Смирнов, Антон Крафтский, Никита Архипов, Тим Элмо Фейтен, Аня Горская, Джейкоб Блюменфельд, Саша Скалин, Эдвард Сержан, Кирилл Роженцов, Илья Поляков, Артём Морозов,
Дмитрий Скородумов, Илья Гурьянов и другие.
TG / INST / FB / VK
Тим Ингольд
Воздухоплавание в гладком пространстве[1]
Перевод выполнен по изданию: Ingold T. The Life of Lines. London; New York: Routledge, 2015. P. 79–83.
Сравнивая людей и их поведение с осьминогами и анемонами в море, Марсель Мосс заметил, что подобно тому, как последние погружены в океан, первые — «в свою среду и чувства»[2]. Это замечание оказалось дальновидным, ибо, как мы с тех пор обнаружили, именно в этом союзе среды и чувства — или, как мы бы сейчас сказали, космического и аффективного — мы и находим сущность атмосферы, а вместе с ней и главный предмет того рода метеорологии — не строго научной, но и не сугубо эстетической, — что должна дополнить мою линеалогию[3].
Эта метеорология, конечно, изучает атмосферные явления, но это явления погоды, а не климата — проживаемые, а не измеряемые, они выражаются в темперировании или сонастройке человеческих настроений и мотиваций на потоки среды и в их смешении. И хотя можно без промедления отождествить среду с воздухом, это не тот воздух, который физика или химия определяют по его молекулярному составу и который мог бы прекрасно существовать в газообразном состоянии в отсутствие людей или каких-либо других существ, которые им дышат. Вдыхаемый и выдыхаемый, этот воздух, скорее, переносит наши аффективные жизни, изливающиеся в окружающий нас мир. Воздух в этом смысле, подобно ветру и погоде, проживается, а не записывается. «Я не могу дышать, — говорит задыхающийся человек, — дайте мне воздуха!» Вновь быть способным дышать — вот что такое воздух. Действительно, можно сказать, что воздух — это изнанка дыхания, так же, как свет — изнанка зрения, а звук — слуха. Быть способным видеть — вот что такое свет; быть способным слышать — вот что такое звук. Вот что значит определить воздух, свет и звук в качестве атмосферных явлений. Благодаря воздуху, как я покажу [ниже], атмосфера не является ни космической, ни аффективной, а представляет собой слияние того и другого.
Эта метеорология, конечно, изучает атмосферные явления, но это явления погоды, а не климата — проживаемые, а не измеряемые, они выражаются в темперировании или сонастройке человеческих настроений и мотиваций на потоки среды и в их смешении. И хотя можно без промедления отождествить среду с воздухом, это не тот воздух, который физика или химия определяют по его молекулярному составу и который мог бы прекрасно существовать в газообразном состоянии в отсутствие людей или каких-либо других существ, которые им дышат. Вдыхаемый и выдыхаемый, этот воздух, скорее, переносит наши аффективные жизни, изливающиеся в окружающий нас мир. Воздух в этом смысле, подобно ветру и погоде, проживается, а не записывается. «Я не могу дышать, — говорит задыхающийся человек, — дайте мне воздуха!» Вновь быть способным дышать — вот что такое воздух. Действительно, можно сказать, что воздух — это изнанка дыхания, так же, как свет — изнанка зрения, а звук — слуха. Быть способным видеть — вот что такое свет; быть способным слышать — вот что такое звук. Вот что значит определить воздух, свет и звук в качестве атмосферных явлений. Благодаря воздуху, как я покажу [ниже], атмосфера не является ни космической, ни аффективной, а представляет собой слияние того и другого.
Мосс М. Опыт о даре. Форма и основание обмена в архаических обществах // Он же. Общества. Обмен. Личность. Труды по социальной антропологии. М.: КДУ, 2011. С. 281. См.: Ingold T. The Life of Lines. P. 9–12. [См. указанный фрагмент в переводе А.Б. Гофмана.: «Рассматривая общество в целом, мы постигаем больше, чем идеи или правила, мы познаем людей, группы и их поведение. Мы видим их движение так же, как в механике наблюдают массы и системы или как в море — осьминогов и анемоны. Мы воспринимаем людские множества и те движущие силы, которые возникают в их среде и чувствах». — Примеч. перев.]
Линеалогия — авторский проект, посвященный расширенному изучению линий. См.: Ingold T. Lines: A Brief History. London; New York: Routledge, 2007; Idem. The Life of Lines. — Примеч. перев.
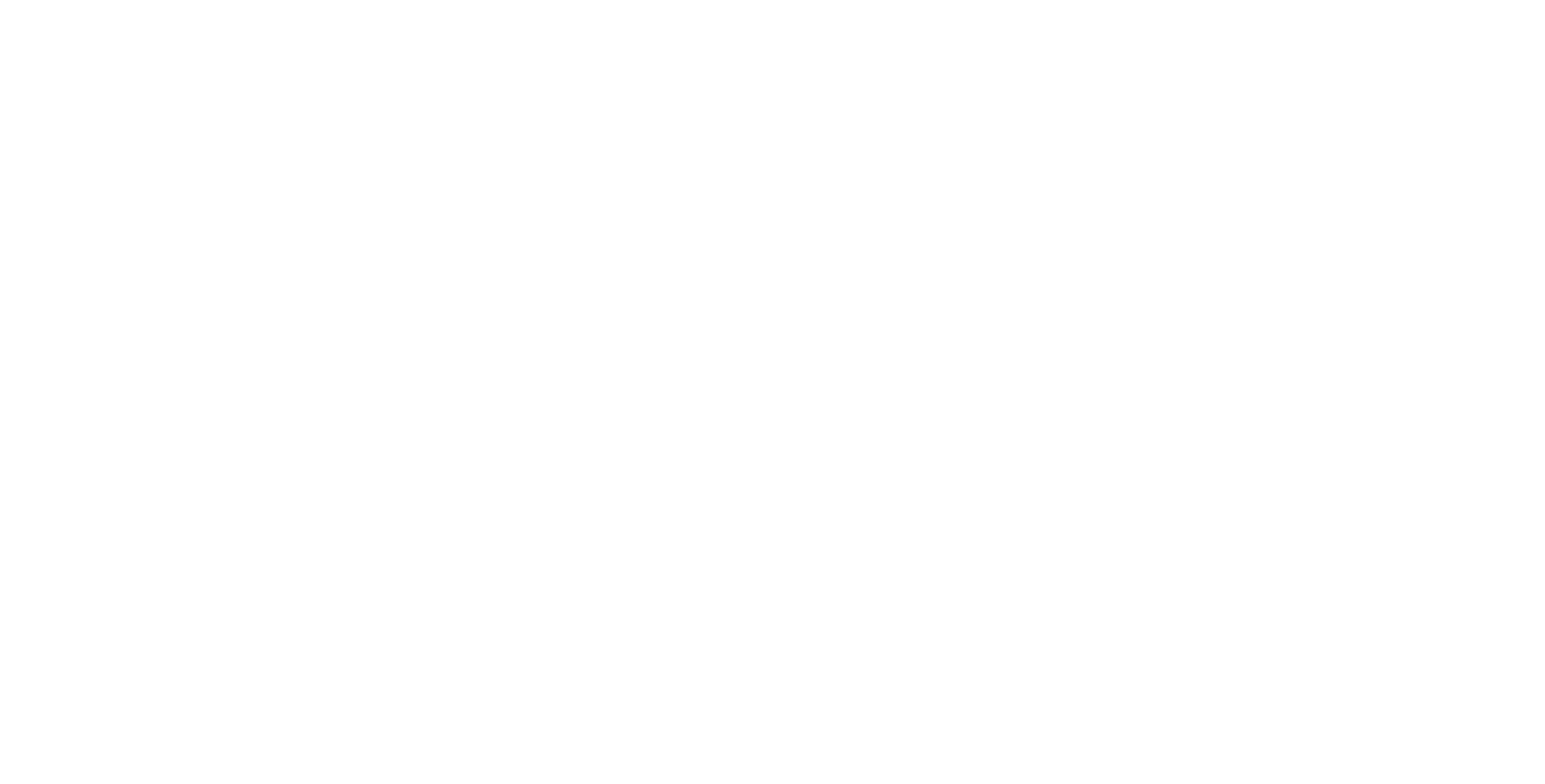
С чего бы начать? Один из возможных путей — подумать о полете на воздушном шаре. Здесь я последую примеру географа Дерека Маккормака из его работы, посвященной злополучной экспедиции шведского исследователя Саломона Августа Андре и его соотечественников, которые попытались долететь на воздушном шаре, наполненном водородом, до Северного полюса. Отмечая противоположность между двумя смыслами атмосферы […], относящимися соответственно к метеорологической науке и философской эстетике, Маккормак задается целью показать, как можно их объединить, отыскав способ переосмыслить атмосферу в ключе, одновременно аффективном и метеорологическом. По его словам, полет на воздушном шаре предлагает нам такой способ, поскольку напрямую показывает, что атмосфера есть «набор динамических и кинетических аффектов» в мире, который никогда не стоит на месте, но непрерывно обгоняет сам себя[4]. В «атмосфере» научной метеорологии было бы невозможно летать на воздушном шаре. Конечно, наука говорит нам, что горячий воздух поднимается, что водород легче других газов, а значит, воздушный шар, наполненный нагретым водородом, будет иметь сильную склонность к подъему. Однако она не расскажет нам, каково это — летать. Но, наоборот, эстетика — хоть и может попытаться описать «пространство настроения», связанное с летучестью, — не в состоянии поднять воздушный шар с земли. Чтобы симулировать полет в эфирной атмосфере театральной сцены, вам придется свесить воздушный шар с подмостков.
В реальном, обитаемом мире воздушный шар дает опыт полета — опыт, в котором чувственное осознание может смешиваться с турбулентностью воздушной среды так, как это невозможно на уровне земли. Однако нам не нужно заходить так далеко, чтобы понять, что наши аффективные жизни носятся в воздухе, где они смешиваются и сливаются в той же мере, в которой впутываются в тропы, сплетаемые нами вдоль земли. Даже оставаясь в помещении, мы плаваем в воздухе, как рыбы в воде, ежемоментно реагируя на сквозняки, отчасти создаваемые нашими собственными и чужими действиями. Убедиться в этом можно, подвесив во время вечеринки обыкновенный воздушный шар к потолку комнаты, наполненной оживленным разговором. Чтобы возникли звуки речи, поток воздуха должен пройти сквозь голосовые связки. Такие потоки, генерируемые участниками вечеринки в ходе разговора, баламутят воздух в комнате, заставляя воздушный шар плясать. Конечно, атмосфера в помещении создается благодаря тому, что множество людей собирается в праздничном пространстве, но лишь потому, что все принимают участие и в свою очередь придают импульс циркулирующим потокам среды. Другой способ увидеть то же самое — выдувать мыльные пузыри. Выдувание пузыря напоминает задержку дыхания, но здесь дыхание не заворачивается в складки легких, а на мгновение подвисает, плавая за пределами тела […]. Там вы и можете его разглядеть — вдох и подвешенность приостановки дыхания, схваченные в полупрозрачном пузыре, — до тех пор пока он не лопается, выпуская свой аффективный заряд в окружение. «Пока пузырь существовал, — пишет Петер Слотердайк, — тот, кто его выдул, находился вне своих собственных пределов, словно существование шара зависело от неослабевающего к нему внимания»[5]. Но надежды должны рассеиваться с той же непременностью, с которой лопается всякий пузырь, только чтобы восстанавливаться с каждым последующим вдохом.
Короче говоря, для того чтобы преодолеть оппозицию между метеорологическим и аффективным — сделать метеорологическое аффективным и аффект метеорологическим, — нам нужно заново наполнить атмосферу стихией воздуха. А значит, в то же время признать, что обитаемый мир, далекий от кристаллизованности в неподвижных и конечных формах, есть мир становления, потоков и течений — мир-погода (weather-world). Именно такой мир имеют в виду Делёз и Гваттари, говоря о пространстве, которое, в их терминах, является гладким, а не рифленым[6]. Рифленое пространство, по их словам, однородно и объемно: в нем расположены разнообразные вещи — каждая в отведенном ей месте. Гладкое пространство, напротив, не предполагает размещения. Оно скорее представляет собой лоскутную ткань непрерывной вариации, беспредельно ширящуюся во всех направлениях. В гладком пространстве глаз не смотрит на вещи, а блуждает среди них, прокладывая сквозной путь, а не ориентируясь на фиксированную цель. То есть он опосредует перцептивное взаимодействие с окружением, являющееся не оптическим, а гаптическим. В оптическом режиме, как мы выяснили на примере театральной инверсии[7], мир как бы полностью формируется на поверхности разума, во многом так же, как он мыслился проецируемым через зрачок глаза на заднюю часть сетчатки. Этот вид обратной проекции предполагает отстраненность и дистанцию видящего от видимого. Гаптический режим, напротив, подразумевает близость и подручность. Это взаимодействие внимательного тела с материалами и землей, «вшивание» себя в текстуры земли вдоль троп чувственной вовлеченности. Проводимые писцом линии являются гаптическими, проективные линии сценографа — оптическими.
Надо сказать, что Делёз и Гваттари совершенно правы, указывая на то, что оппозиция между оптическим и гаптическим проходит поперек противоположности между глазом и рукой: помимо оптического зрения и гаптического осязания у нас могут быть оптическое осязание и гаптическое зрение[8]. Например, облаченная в перчатку рука врача клинически отстранена, в то время как глаз писца захвачен чернильными следами его письма, а глаз вышивальщицы — нитями ее ткани. Но полностью ли опыт гладкого пространства охватывается гаптическим режимом вовлеченности, как предполагают Делёз и Гваттари, или это дает нам лишь одну сторону картины? Ибо всё выглядит так, будто у гладкого пространства есть две стороны, два аспекта. С одной стороны, оно возникает как плотный клубок троп — я назвал его сплетением (meshwork), — оставляемых живыми существами по мере того, как они прокладывают свои пути сквозь мир, во многом как растения пускают корни в почву. Это линии движения и роста — Делёз и Гваттари называют их «линиями становления», — которые, пусть и не следуя консистентному направлению, непрерывно реагируют на вариации среды. Именно в этой связи Делёз и Гваттари берут в качестве образцового материала гладкого пространства войлок. По сравнению с льном, с его регулярными полосами основы и утка́, войлок состоит из клубящейся топи волокон, которые скручиваются и заворачиваются во все стороны[9]. Гаптическое восприятие будет следовать за этими изгибами и поворотами, вплетаемыми в текстуру земли точно так же, как они ввязываются в войлок.
И все же, с другой стороны, Делёз и Гваттари продолжают описывать топологию гладкого пространства как состоящую вовсе не из линий или траекторий движения, а из «звуковых и тактильных качеств» ветра и погоды. Таким образом, даже когда крестьянин-пахарь рифлит землю своим плугом, создавая узор правильных борозд, он работает под небом — «всецело причастен к пространству ветров» — и в этом смысле остается обитателем глади. Это пространство, как говорят Делёз и Гваттари, где воет ветер, трещит лед и поет песок[10]. Эта картина, безусловно, найдет отклик у тлинкитов (Tlingit) — народа с северо-западного побережья Тихого океана, преимущественно горного региона, где расположены одни из самых активных ледников в мире. По словам их этнографа Джули Крукшанк, тлинкиты верят, что ледники могут слушать. Поэтому люди должны быть осторожны, находясь рядом с ними, как бы те не обиделись и не взбушевались — с потенциально катастрофическими последствиями[11]. Тлинкиты, разумеется, не настолько глупы, чтобы думать, будто у ледников есть уши или что можно слушать без них. Скорее, ледник слушает потому, что в феноменальном мире тлинкитов он раскрывается не как объект восприятия (коим он мог бы быть, например, для западного геолога), а как всеохватывающий опыт звука, света и чувства — то есть как атмосфера. Невозможно приблизиться к леднику или населять его, не будучи ошеломленным взрывными звуками трескающегося льда, ослепительным белым светом (который тлинкиты описывают как своеобразное тепло) и влажным холодом в воздухе. Это сочетание качеств — звучности, свечения и осязаемости — составляет то, что ледник есть.
В этом атмосферном проявлении ледник настолько насыщает сознание тех, кто его воспринимает, что, когда они слушают, именно ледник слушает через них, в своем звуке. Точно так же, когда они смотрят и прикасаются, именно ледник смотрит и прикасается через них, в своем свете и в своем чувстве. И то же самое происходит с крестьянином-земледельцем, когда он трудится на своих полях под неумолимым небом: ветер разгребает землю через опирающееся на нее тело, солнце освещает ее сухими глазами крестьянина, а раскаты грома слышатся его встревоженными ушами. Для охотников-тлинкитов, для европейских крестьян, да и для всех нас опыт гладкого пространства в этом атмосферном смысле есть чувство, свет и звук, а не то, что мы получаем с их помощью. Если линейные тропы гаптического восприятия, подобно волокнам войлока, сплетают текстуру гладкого пространства, то атмосфера составляет среду, которая делает такое восприятие возможным. Таким образом, в самом сердце гладкого пространства, похоже, существует тесная связь между гаптическим и атмосферным. […]
В реальном, обитаемом мире воздушный шар дает опыт полета — опыт, в котором чувственное осознание может смешиваться с турбулентностью воздушной среды так, как это невозможно на уровне земли. Однако нам не нужно заходить так далеко, чтобы понять, что наши аффективные жизни носятся в воздухе, где они смешиваются и сливаются в той же мере, в которой впутываются в тропы, сплетаемые нами вдоль земли. Даже оставаясь в помещении, мы плаваем в воздухе, как рыбы в воде, ежемоментно реагируя на сквозняки, отчасти создаваемые нашими собственными и чужими действиями. Убедиться в этом можно, подвесив во время вечеринки обыкновенный воздушный шар к потолку комнаты, наполненной оживленным разговором. Чтобы возникли звуки речи, поток воздуха должен пройти сквозь голосовые связки. Такие потоки, генерируемые участниками вечеринки в ходе разговора, баламутят воздух в комнате, заставляя воздушный шар плясать. Конечно, атмосфера в помещении создается благодаря тому, что множество людей собирается в праздничном пространстве, но лишь потому, что все принимают участие и в свою очередь придают импульс циркулирующим потокам среды. Другой способ увидеть то же самое — выдувать мыльные пузыри. Выдувание пузыря напоминает задержку дыхания, но здесь дыхание не заворачивается в складки легких, а на мгновение подвисает, плавая за пределами тела […]. Там вы и можете его разглядеть — вдох и подвешенность приостановки дыхания, схваченные в полупрозрачном пузыре, — до тех пор пока он не лопается, выпуская свой аффективный заряд в окружение. «Пока пузырь существовал, — пишет Петер Слотердайк, — тот, кто его выдул, находился вне своих собственных пределов, словно существование шара зависело от неослабевающего к нему внимания»[5]. Но надежды должны рассеиваться с той же непременностью, с которой лопается всякий пузырь, только чтобы восстанавливаться с каждым последующим вдохом.
Короче говоря, для того чтобы преодолеть оппозицию между метеорологическим и аффективным — сделать метеорологическое аффективным и аффект метеорологическим, — нам нужно заново наполнить атмосферу стихией воздуха. А значит, в то же время признать, что обитаемый мир, далекий от кристаллизованности в неподвижных и конечных формах, есть мир становления, потоков и течений — мир-погода (weather-world). Именно такой мир имеют в виду Делёз и Гваттари, говоря о пространстве, которое, в их терминах, является гладким, а не рифленым[6]. Рифленое пространство, по их словам, однородно и объемно: в нем расположены разнообразные вещи — каждая в отведенном ей месте. Гладкое пространство, напротив, не предполагает размещения. Оно скорее представляет собой лоскутную ткань непрерывной вариации, беспредельно ширящуюся во всех направлениях. В гладком пространстве глаз не смотрит на вещи, а блуждает среди них, прокладывая сквозной путь, а не ориентируясь на фиксированную цель. То есть он опосредует перцептивное взаимодействие с окружением, являющееся не оптическим, а гаптическим. В оптическом режиме, как мы выяснили на примере театральной инверсии[7], мир как бы полностью формируется на поверхности разума, во многом так же, как он мыслился проецируемым через зрачок глаза на заднюю часть сетчатки. Этот вид обратной проекции предполагает отстраненность и дистанцию видящего от видимого. Гаптический режим, напротив, подразумевает близость и подручность. Это взаимодействие внимательного тела с материалами и землей, «вшивание» себя в текстуры земли вдоль троп чувственной вовлеченности. Проводимые писцом линии являются гаптическими, проективные линии сценографа — оптическими.
Надо сказать, что Делёз и Гваттари совершенно правы, указывая на то, что оппозиция между оптическим и гаптическим проходит поперек противоположности между глазом и рукой: помимо оптического зрения и гаптического осязания у нас могут быть оптическое осязание и гаптическое зрение[8]. Например, облаченная в перчатку рука врача клинически отстранена, в то время как глаз писца захвачен чернильными следами его письма, а глаз вышивальщицы — нитями ее ткани. Но полностью ли опыт гладкого пространства охватывается гаптическим режимом вовлеченности, как предполагают Делёз и Гваттари, или это дает нам лишь одну сторону картины? Ибо всё выглядит так, будто у гладкого пространства есть две стороны, два аспекта. С одной стороны, оно возникает как плотный клубок троп — я назвал его сплетением (meshwork), — оставляемых живыми существами по мере того, как они прокладывают свои пути сквозь мир, во многом как растения пускают корни в почву. Это линии движения и роста — Делёз и Гваттари называют их «линиями становления», — которые, пусть и не следуя консистентному направлению, непрерывно реагируют на вариации среды. Именно в этой связи Делёз и Гваттари берут в качестве образцового материала гладкого пространства войлок. По сравнению с льном, с его регулярными полосами основы и утка́, войлок состоит из клубящейся топи волокон, которые скручиваются и заворачиваются во все стороны[9]. Гаптическое восприятие будет следовать за этими изгибами и поворотами, вплетаемыми в текстуру земли точно так же, как они ввязываются в войлок.
И все же, с другой стороны, Делёз и Гваттари продолжают описывать топологию гладкого пространства как состоящую вовсе не из линий или траекторий движения, а из «звуковых и тактильных качеств» ветра и погоды. Таким образом, даже когда крестьянин-пахарь рифлит землю своим плугом, создавая узор правильных борозд, он работает под небом — «всецело причастен к пространству ветров» — и в этом смысле остается обитателем глади. Это пространство, как говорят Делёз и Гваттари, где воет ветер, трещит лед и поет песок[10]. Эта картина, безусловно, найдет отклик у тлинкитов (Tlingit) — народа с северо-западного побережья Тихого океана, преимущественно горного региона, где расположены одни из самых активных ледников в мире. По словам их этнографа Джули Крукшанк, тлинкиты верят, что ледники могут слушать. Поэтому люди должны быть осторожны, находясь рядом с ними, как бы те не обиделись и не взбушевались — с потенциально катастрофическими последствиями[11]. Тлинкиты, разумеется, не настолько глупы, чтобы думать, будто у ледников есть уши или что можно слушать без них. Скорее, ледник слушает потому, что в феноменальном мире тлинкитов он раскрывается не как объект восприятия (коим он мог бы быть, например, для западного геолога), а как всеохватывающий опыт звука, света и чувства — то есть как атмосфера. Невозможно приблизиться к леднику или населять его, не будучи ошеломленным взрывными звуками трескающегося льда, ослепительным белым светом (который тлинкиты описывают как своеобразное тепло) и влажным холодом в воздухе. Это сочетание качеств — звучности, свечения и осязаемости — составляет то, что ледник есть.
В этом атмосферном проявлении ледник настолько насыщает сознание тех, кто его воспринимает, что, когда они слушают, именно ледник слушает через них, в своем звуке. Точно так же, когда они смотрят и прикасаются, именно ледник смотрит и прикасается через них, в своем свете и в своем чувстве. И то же самое происходит с крестьянином-земледельцем, когда он трудится на своих полях под неумолимым небом: ветер разгребает землю через опирающееся на нее тело, солнце освещает ее сухими глазами крестьянина, а раскаты грома слышатся его встревоженными ушами. Для охотников-тлинкитов, для европейских крестьян, да и для всех нас опыт гладкого пространства в этом атмосферном смысле есть чувство, свет и звук, а не то, что мы получаем с их помощью. Если линейные тропы гаптического восприятия, подобно волокнам войлока, сплетают текстуру гладкого пространства, то атмосфера составляет среду, которая делает такое восприятие возможным. Таким образом, в самом сердце гладкого пространства, похоже, существует тесная связь между гаптическим и атмосферным. […]
McCormack D. Engineering affective atmospheres on the moving geographies of the 1897 Andrée expedition // Cultural Geographies. 2008. № 15. P. 414, 418.
Слотердайк П. Сферы. Микросферология. Том 1. Пузыри. СПб.: Наука, 2005. С. 13.
Делёз Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато: капитализм и шизофрения. Екатеринбург: У-Фактория; М.: Астрель, 2010. С. 805–851.
Одно из центральных авторских понятий. Инверсия — это операция, в ходе которой линии движения превращаются в границы содержания. Проведение границы между внутренним и внешним приводит к «театрализации» мира: отныне он не столько проживается, сколько созерцается. — Примеч. перев.
Делёз Ж., Гваттари Ф. Указ. соч. С. 839–840.
Там же. С. 807–808.
См.: там же. С. 814, 817, 643.
Cruikshank J. Do Glaciers Listen? Local Knowledge, Colonial Encounters and Social Imagination. Vancouver: UBC Press; Seattle: University of Washington Press, 2005.
Перевод с английского: Денис Шалагинов

